| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
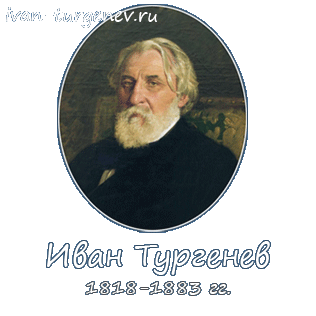
Встреча с Тургеневым - Николай МинскийЛетом 1880 года я был в Париже 1 и, воспользовавшись рекомендательным письмом от редактора "Вестника Европы", М.М. Стасюлевича, навестил Тургенева. Я знал от Стасюлевича, что он отзывался с похвалой о первых моих стихотворениях, напечатанных в "Вестнике Европы"2. Тургенев ждал меня. Я приехал к нему днем в Буживаль, где он жил на даче у Виардо 3. Консьерж сказал мне, что Тургенев в саду, в павильоне. Я постучался в павильон и вошел. Навстречу мне поднялся высокий старик, в котором я по портретам узнал Тургенева и обратился к нему по-русски. К удивлению моему, старик улыбнулся и сказал мне по-французски, что он Виардо, а что Тургенев тут рядом, в другом павильоне. Сходство между Виардо и Тургеневым было поразительное. Когда, однако, я вошел к Тургеневу во второй павильон, то увидел перед собой человека не то что высокого, а гигантского роста, широкоплечего, с густыми седыми волосами, остриженными по-русски, в скобку, с седой бородой, и с простым лицом славянского и даже чисто крестьянского типа. К немалому моему смущению, этот гигант вдруг схватил щетку и, сильно нагнувшись, принялся меня чистить. По дороге в Буживаль я попал под дождь и был весь забрызган. Я услышал над собой наставления, произнесенные странно тонким при такой огромной фигуре голосом: -- Всегда, куда бы вы ни отправлялись, берите с собой зонтик. Наконец мы уселись и началась беседа, длившаяся без перерыва часа три или дольше. Вначале Тургенев меня как-то огорчил и смутил. Я шел к нему в приподнятом настроении, ожидая всяческих откровений на высокие темы, а он вместо того заговорил на тему парижских сплетен из жизни русской колонии, стал рассказывать об открывшемся в то время клубе русских художников 4 и выразился с площадной грубостью о секретаре клуба 5, тут же почему-то советуя мне познакомиться с ним. Подметив, вероятно, тень, пробежавшую по моему лицу, Тургенев почувствовал, что взял неверный тон в начавшейся беседе, но, как это иногда бывает, не мог сразу прекратить, а скорее усиливал создавшуюся неловкость. Не дав мне опомниться, он вдруг заговорил о себе в слишком интимном тоне: -- Ведь вот меня почему-то считают чувственником, - сообщил он мне. - Женщины пишут мне любовные письма. А на самом деле у меня совсем нет темперамента. Виардо говорит, что я рыба. Я все более смущался от этих неожиданных подробностей интимного характера, и мне казалось, что Тургенев как бы рисуется, стараясь поразить посетителя. Он тоже, по-видимому, чувствовал себя не по себе, внутренне раздражался из-за чуявшейся ему на моем лице насмешливой улыбки, и через некоторое время неудачное начало беседы привело к довольно бурной сцене. Тургенев заговорил о молодых русских писателях и отозвался с большим сочувствием о Гаршине, которого сравнил с Мопассаном. -- А вот еще, - прибавил он, - обращаю ваше внимание на молодого писателя, автора рассказа "Степь". Фамилия его Чехов. Это, кажется, настоящий талант 6. Я необдуманно заметил, что молодым писателям, пришедшим после таких гигантов, как Тургенев, Толстой, Гончаров, трудно писать, так как все главные темы исчерпаны. Должно быть, говоря это, я продолжал несколько смущенно улыбаться, и это окончательно вывело из себя Тургенева, всегда подозревавшего младшее поколение в неуважительном к себе отношении. -- Вздор вы говорите! - накинулся он на меня. - У каждого поколения свои темы. И потом вдруг закричал: -- Как вы смеете смеяться надо мной! Мне шестьдесят три года. Я совершенно оторопел и не знал, что ему ответить. Мне, конечно, в голову не приходило смеяться над ним. Увидав мой искренний испуг, Тургенев опомнился, сразу переменил тон, стараясь сгладить впечатление от своей ничем не вызванной вспышки, и стал сыпать анекдотами и рассказами, увлекая меня необычайным блеском и талантом передачи разных воспоминаний. Прежде всего он рассказал мне о своей единственной встрече с Пушкиным. -- Видел я его в книжной лавке Смирдина 7, когда он уходил, надевая шинель. А как вы думаете, - вдруг спросил он у меня, - какого у него были цвета волосы? Я ответил, что представляю себе Пушкина брюнетом в связи с его происхождением. -- Ошибаетесь, - сказал Тургенев. - У Пушкина были светлые курчавые волосы. И тут же, взяв карандаш и бумагу, Тургенев нарисовал очень похожий профиль Пушкина и отдал мне рисунок. К сожалению, я дал этот рисунок граверу Матэ 8 и, где он теперь находится, не могу сказать. После того Тургенев стал рассказывать с большим юмором о еженедельных собраниях у Краевского, издателя "Отечественных записок". -- Мы сидели, - рассказывал он, - за круглым столом в гостиной: Марко Вовчек <так! - С.С.>, Фет и я. У Фета грудь была оттопырена, так как он носил на себе в виде панциря все свое состояние в золотых монетах. Банкам он не доверял 9. От времени до времени открывалась дверь в кабинет и гостиная заполнялась гулом голосов. Тургенев с большим мастерством воспроизвел в звуках этот гул. -- В кабинете, - продолжал он, - заседала литературная братия и среди всех других молодой Толстой, в военном мундире. Бесцеремонно скинув сапоги, которые ему жали ноги, он сидел в одних чулках 10. Речь немедленно перешла на Толстого. -- На меня клевещут, - сказал Тургенев, - будто я старался утаить от французов творчество Толстого и будто на вопрос, что следует перевести из него на французский язык, я указал на сравнительно слабую вещь, "Семейное счастье". Неправда. По моей инициативе перевели "Войну и мир", и перевод этот я дал Флоберу 11. Флобер, увидав перед собой два толстых тома, рассказал мне анекдот о крестьянке: доктор прописал ей ванну, и когда ванна была приготовлена, она с ужасом спросила: "Неужели я должна все это выпить?" Во время чтения "Войны и мира" Флобер, однако, переменил свое отношение к роману и несколько раз присылал мне записки с выражением своего восторга перед "русским Гомером"12. -- Я очень высоко ставлю Толстого, - продолжал Тургенев, - и есть страницы, как, например, описание свидания Анны Карениной с сыном, которые я читаю, застегнувшись на все пуговицы. Беседа перешла на Достоевского. Тургенев понизил голос и заговорил несколько торжественным тоном: -- Жил я, - начал он, - в Петербурге, в гостинице. Однажды утром входит ко мне Достоевский в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, и, не глядя на меня, начинает как бы читать наизусть заученный рассказ: "Вам известно, - говорит он, - что в "Дневнике писателя" я вел кампанию против одной портнихи, мучившей свою малолетнюю ученицу13. Я добился того, что ученица была отпущена на волю. Я подобрал девочку - и растлил ее. Долго я не знал, как наказать себя за этот гнусный поступок, и наконец придумал следующую кару: пойду я к человеку, самому для меня ненавистному на свете, - тут Достоевский поднял глаза на меня, - и откровенно расскажу ему про этот случай. Вот почему я пришел к вам". Сказав это, Достоевский поднялся и, не прощаясь, вышел из комнаты. Вернувшись в Петербург, я передал этот рассказ Тургенева о Достоевском Максиму Белинскому (Иерониму Ясинскому), и он переделал его в повесть 14. Я должен сознаться, что когда Тургенев рассказывал мне об этом инциденте, мне казалось, что он не столько вспоминает, сколько сочиняет. Слишком рассказ был литературно отшлифован, для того чтобы быть верной передачей подлинного события. Тургенев еще долго говорил о Достоевском в весьма недружелюбном тоне, рассказывал, что Достоевский развратничал по ночам, а утром бегал в Новодевичий и часами клал земные поклоны. Рассказывал он еще другие анекдотические подробности о разврате Достоевского, но о них лучше умолчать. Говоря далее о Писемском, Тургенев рассказал случай, о котором тоже трудно сказать, было ли это правдой или сочинительством. Писемский, по словам Тургенева, в свою бытность в Париже, превратил, к ужасу прислуги и хозяев гостиницы, где жил, свой номер в уборную. Когда Тургенев пришел его навестить и вошел в комнату, он вынужден был убежать15. Когда разговор перешел на заграничных писателей, Тургенев оказался таким же неисчерпаемым в рассказах о разных европейских знаменитостях и художественно передавал свои впечатления о них. Говоря о Диккенсе, он особенно восторгался его талантом как чтеца своих произведений. Диккенс был, по его словам, быть может, даже лучшим чтецом, чем писателем 16. Тургенев присутствовал на одном чтении Диккенса и был поражен искусством, с которым Диккенс менял голос и выражение лица сообразно с персонажем, о котором шла речь. Изображая одного пьяницу, он как-то особенно надул щеки и лицо и, не произнеся еще ни слова, вызвал общий смех зала. Много порассказал он мне о своих французских приятелях, о Флобере и Золя, в особенности о последнем. -- По моей инициативе, - рассказал он между прочим, - М.М. Стасюлевич предложил Золя написать в "Вестнике Европы" несколько страниц о новой импрессионистской живописи во Франции, о Манэ <так! - С.С.> и других17, в защиту которых Золя так ревностно выступал в то время. Я передал Золя предложение "Вестника Европы" и сказал, что статьи будут оплачиваться по 500 франков за лист. Плата эта была по французским представлениям высокая, и у Золя, когда он это услышал, от радости не то что глаза, а зубы загорелись. О Додэ <так! - С.С.> Тургенев отозвался довольно сдержанно. -- Это писатель чрезвычайно неровный, - говорил он. - Амплитуда его таланта, как ртуть в термометре, то поднимается, то опускается. Меня, однако, удивил и этот сравнительно благосклонный отзыв об авторе "Тартарена", так как известно было, что в то время между Тургеневым и Додэ пробежала черная кошка из-за письма, написанного Додэ и содержавшего нелестный отзыв о Тургеневе 18. Тургенев хорошо знал Виктора Гюго и рассказал, между прочим, довольно характерную подробность, рисующую невежество даже самых передовых французов в прежнее время относительно всего за пределами Франции. -- Как-то раз, - говорил Тургенев, - у нас в разговоре с ним зашла речь о Гёте. Гюго резко отрицал гений Гёте и отозвался презрительно о "Фаусте". У меня тогда мелькнула мысль: а читал ли он "Фауста"? Я осторожно задал ему этот вопрос, и он ответил решительным тоном: "Никогда не читал, но знаю так, точно я сам его родил" (comme si je l'ai engendrИ) 19. Разговор перешел на тему о русском и других языках. -- Удивительно выразительный русский язык, - восторгался Тургенев. - Достаточно иногда одной буквы, чтобы усилить впечатление. Вот один мой приятель, например, жалуясь на свою тещу, сказал: "Это даже не шельма, а щельма". -- Теории русского языка я не знаю, - продолжал распространяться Тургенев на эту свою любимую тему. - Я, кажется, пишу не дурно по-русски, а до сих пор (кокетничал он) не отличаю там наречий от причастия. И вообще я по точной науке плох. Никогда не мог преодолеть арифметику. Знаю только, что если нарисовать веточку и под ней поставить число, то получится нечто головоломное... Немецкий язык я знаю хорошо. Учился в Гей-дельберге. Но язык путаный. Читаешь фразу, занимающую целую страницу, и, после долгих усилий, улавливаешь наконец смысл. Переворачиваешь страницу - и вдруг видишь: "нихт". Все ни к чему. Начинай сначала. -- Французским я тоже хорошо владею, и мне раз предложили перевести самому одну из моих повестей на французский язык. Я с негодованием отказался 20. Уважающий себя писатель не должен сметь писать на другом языке, кроме родного. Лицо Тургенева омрачилось. -- Трудно стало мне писать в последнее время, - сказал он. - Не замолаживает *. Пишу я теперь роман под заглавием "Самист". И, видя мое недоумение, он стал объяснять. -- "Самист" - это новый тип человека, который признал только себя и сам себя считает мерилом вещей. На этом разговор наш окончился. Что сталось с романом "Самист"? Был ли это только замысел или в рукописях Тургенева осталось начало романа, мне неизвестно. Насколько могу судить по отрывочным словам Тургенева, он имел в виду тип, который потом был изображен Арцыбашевым в "Санине"21. Второе мое свидание с Тургеневым состоялось в Париже, на городской квартире Виардо. Я застал Тургенева больным, с закутанной ногой. Помещался он на антресолях, куда вела узкая лестница, и я был поражен неудобством помещения, отведенного больному. Он призвал меня по следующему делу: я перед тем прочел в Клубе художников несколько своих революционных стихотворений: "Исповедь преступника"22, "Казнь жирондиста" и другие. Тогдашний русский посланник (если не ошибаюсь, князь Орлов 23), узнав об этом, вознегодовал и хотел закрыть клуб. Тургенев сообщил мне, что ему, хотя и с трудом, удалось отстоять существование клуба 24. Осенью того же 1880 года я в последний раз видел Тургенева уже в Петербурге, на знаменитом обеде, который устроен был Тургеневу с целью примирения его с Достоевским 25. За закусочным столом они стояли рядом. Тургенев не прикасался к закускам. Достоевский же, к общему удивлению, налил в стаканчик чистого абсента и одним духом выпил. После обеда Тургенев и Достоевский ушли вдвоем в коридор, где сели на подоконник и беседовали. Я случайно прошел мимо. Тургенев подозвал меня и представил Достоевскому как молодого поэта. Достоевский пожал мне руку и пробормотал: "Хорошо. Хорошо. Пишите. Работайте". Достоевского я после того еще видел на одной из знаменитых "пятниц" у поэта Якова Полонского 26. Помню его стоящим посреди зала. Его обступила большая толпа гостей, слушая, как он тихим голосом пророчествовал о грядущем величии русского государства, в котором сольется все славянство... Приведенное выше мое стихотворение "Казнь жирондиста" имело свою историю. Я включил его в первый сборник моих стихов, изданный Н. Бакстом, братом известного профессора-физиолога. Издание было приговорено к сожжению постановлением комитета министров 27. Я отправился для объяснений к председателю комитета, который принял меня любезно, хвалил стихи и выразил сожаление, что их присудили к такой каре. Он прибавил, что фактически сборник еще не сожжен и дело зависит от министра народного просвещения, графа Д. Толстого. Я пошел на прием к министру. Помню, что до меня, обходя просителей, министр остановился перед депутацией крестьян, просивших разрешения переселиться в Сибирь. Выслушав их ходатайство, он стал кричать, что их обманули своими бреднями злые люди, что никаких свободных земель в Сибири не имеется и никакое переселение недопустимо. Еще не остыв от гнева после разговора с крестьянами, он подошел ко мне, и тут разыгралась бурная сцена. Узнав, что я автор приговоренного к сожжению сборника стихов, министр с бешенством накинулся на меня, стал топать ногами. "Мы знаем, - кричал он, - кого вы подразумеваете в своих стихах!" В результате этого свидания с Д. Толстым у меня был обыск в ту же ночь и против меня возбуждено было политическое дело. Меня несколько раз вызывали в Третье Отделение, и я помню, как жандармский капитан, звеня шпорами, допрашивал меня: "А кого, скажите нам, пожалуйста, вы разумели под волнами? Кого под скалами?"28 Через некоторое время меня по этому делу подвергли медицинскому осмотру на предмет выяснения, выдержу ли я климат Восточной Сибири. Доктор, однако, вопреки моему доброму здоровью, благосклонно констатировал у меня болезнь легких. Я уже было готовился к ссылке в места далекие, если и не самые отдаленные, - но тут подошел манифест по случаю коронации Александра III и дело было автоматически прекращено. Мой первый сборник стихотворений, однако, так и был сожжен 29. Что касается стихотворения "Исповедь преступника", то оно было напечатано в "Земле и воле" 30. Репин написал на эту поэму картину и подарил ее мне с посвящением на обороте. Я отдал картину в Щукинский музей в Москве, где она должна находиться теперь 31. "Исповедь преступника" была впервые напечатана под моим именем в однотомном сборнике моих стихотворений, вышедшем в Берлине в 1922 году 32. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |