| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
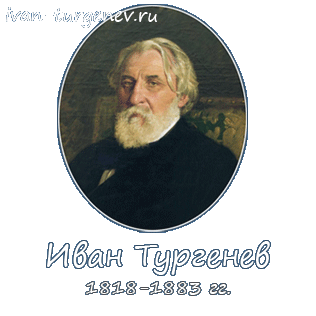
Глава пятая - Авдотья Панаева[Тургенев - Некрасов - Женитьба Белинского - - Аполлон Григорьев - Варламов - Булгарин - Межевичи Если не ошибаюсь, в 1842 году я познакомилась с Тургеневым, который также жил летом на даче в Павловске. Он только что начал свое литературное поприще. На музыке, в вокзале, он и Соллогуб резко выделялись в толпе: оба высокого роста и оба со стеклышками в глазу, они с презрительной гримасой смотрели на простых смертных. После музыки Тургенев очень часто пил чай у меня. У Панаева развелось столько знакомых в Павловске, что он редко приходил домой с музыки. Тургенев занимал меня разговором о своей поездке за границу и однажды рассказал о пожаре на пароходе, на котором он ехал из Штетина, причем, не потеряв присутствия духа, успокаивал плачущих женщин и ободрял их мужей, обезумевших от паники. В самом деле, необходимо было сохранить большое хладнокровие, чтобы запомнить столько мелких подробностей в сценах, какие происходили на горевшем пароходе. Я уже слышала раньше об этой катастрофе от одного знакомого, который тоже был пассажиром на этом пароходе, да еще с женой и с маленькой дочерью; между прочим, знакомый рассказал мне, как один молоденький пассажир был наказан капитаном парохода за то, что он, когда спустили лодку, чтобы первых свезти с горевшего парохода женщин и детей, толкал их, желая сесть раньше всех в лодку, и надоедал всем жалобами на капитана, что тот не дозволяет ему сесть в лодку, причем жалобно восклицал: "mourir si jeune!" (умереть таким молодым!). На музыке я показала этому знакомому, - так как он был деревенский житель, - всех сколько-нибудь замечательных личностей, в том числе Соллогуба и Тургенева. "Боже мой! - воскликнул мой гость, - да это тот самый молодой человек, который кричал на пароходе "mourir si jeune". Я была уверена, что он ошибся, но меня удивило, когда он прибавил: "у него тоненький голос, что очень поражает в первую минуту, при таком большом росте и плотном телосложении"[073]. Мне все-таки казалось невероятным, чтоб это был Тургенев, но через несколько времени я имела случай убедиться, что Тургенев способен к импровизации. Идя в темный вечер домой с музыки, надо было переходить дорогу, а из ворот, которые ведут из вокзала в город, неожиданно выехала карета. Сделалось смятение; многочисленное общество дам и кавалеров, шедшее впереди нас, разделилось на две части: одна успела перебежать через дорогу, а другая осталась с нами, и одна дама вскрикнула от испуга, перебегая дорогу. Карета проехала, и мы спокойно продолжали свой путь. На другой день, на музыке, я шла в толпе по аллее; впереди меня шел Тургенев с дамами и рассказывал им, что он, будто бы вчера, спас какую-то даму, которую чуть не задавила карета, остановив лошадей; будто бы с дамой сделалось дурно, и он на руках перенес ее и передал кавалерам, которые рассыпались в благодарностях за спасение их дамы. Когда я стала стыдить Тургенева, зачем он присочинил небывалую историю, то он мне на это ответил, улыбаясь: "Надо было чем-нибудь занять своих дам"[074]. С этих пор я уже не верила, если Тургенев рассказывал о себе что-нибудь. Он в молодости часто импровизировал и слишком увлекался. Иногда Белинский с досадой говорил ему: - Когда вы, Тургенев, перестанете быть Хлестаковым? Это возмутительно видеть в умном и образованном человеке. Тургенев остерегался при Белинском увлекаться в импровизации и искал более снисходительных слушателей. От Белинского Тургеневу досталась сильная головомойка, когда дошло до его сведения, что Тургенев в светских дамских салончиках говорил, что не унизит себя, чтобы брать деньги за свои сочинения; что он их дарит редакторам журнала. - Так вы считаете позором сознаться, что вам платят деньги за ваш умственный труд? Стыдно и больно мне за вас, Тургенев! - упрекал его Белинский. Тургенев чистосердечно покаялся в своем грехе и сам удивлялся, как мог говорить такую пошлость. Белинский для своего кружка был нравственной уздой, так что после его смерти все, как школьники, освободясь от надзора своего наставника, почувствовали свободу. Им более не нужно было идеализировать перед Белинским свои поступки, которые на деле были далеки от идеальности, или впадать в самобичевание своих слабостей. У Тургенева в молодости была слабость к аристократическим знакомствам и он, бывало, все уши прожужжит, если попадал в светский салон [075]. Он также во всеуслышание рассказывал, когда влюблялся или побеждал сердце женщины. Впрочем, последней слабостью страдали в кружке почти все, хвастались своими победами, и часто опоэтизированная в их рассказах женская страсть вдруг превращалась в самую прозаическую денежную интрижку. Но иногда их болтливость о сердечных тайнах порядочных женщин влекла за собой печальные последствия. Панаев упоминает в своих воспоминаниях о том, как Тургенев знакомил Белинского с английской и немецкой литературой, сообщая ему все, что выходило хорошего за границей. Пока Белинский не достиг того, что мог свободно сам читать по-французски, Панаев переводил для него целые тетради из Ламартина, Луи-Блаза и др. В начале сороковых годов по утрам в праздничные дни к Панаеву приходил правовед Иван Сергеевич Аксаков и читал ему свои стихи. Панаев с большим сочувствием относился к юному поэту. Он познакомил его с Белинским, который поощрял юношу к литературной деятельности и находил, что Иван Сергеевич Аксаков гораздо умнее и талантливее своего брата Константина. Белинский раз, по уходе Ивана Сергеевича, сказал: - Ах, если бы побольше было таких отцов у нас в России, как старик Аксаков, который сумел дать такое честное направление своим сыновьям, тогда бы можно было умереть спокойно, веруя, что новое поколение побольше нашего принесет пользы России. Первый раз я увидела И.А.Некрасова в 1842 году, зимой. Белинский привел его к нам, чтобы он прочитал свои "Петербургские углы". Белинского ждали играть в преферанс его партнеры; приехавший из Москвы В.П.Боткин тоже сидел у нас. После рекомендации Некрасова мне и тем, кто его не знал, Белинский заторопил его, чтоб он начал чтение. Панаев уже встречался с Некрасовым где-то [076]. Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старее своих лет; манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опять опускал. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи. Белинский уже прочел "Петербургские углы", но слушал чтение с большим вниманием и посматривал на слушателей, желая знать, какое впечатление производит на них чтение. Я заметила, что реальность "Петербургских углов" коробит слушателей. По окончании чтения раздались похвалы автору. Белинский, расхаживая по комнате, сказал: - Да-с, господа! Литература обязана знакомить читателей со всеми сторонами нашей общественной жизни. Давно пора коснуться материальных вопросов жизни, ведь важную роль они играют в развитии общества[077]. На эту тему Белинский говорил довольно долго. Сели за преферанс, и Некрасов всех обыграл, потому что его партнеры были плохие игроки. Проигрыш всех не превышал трех рублей. Белинский сказал Некрасову: - С вами играть опасно, без сапог нас оставите! По уходе Белинского и Некрасова В.П.Боткин начал ораторствовать. Он считался в кружке за тонкого ценителя всех изящных искусств. Боткин развивал мысль, что такую реальность в литературе нельзя допускать, что она зловредна, что обязанность литературы развивать в читателях эстетический вкус и т.п. Перешли и к внешности автора, подтрунивали над его несветскими манерами, находили, что его литературная деятельность низменна, - Некрасов переделывал французские водевили на русские нравы с куплетами для бенефисов плохих актеров, вращался в кругу всякого сброда и сотрудничал в мелких газетах. На другой день, за обедом у нас, у Белинского с Боткиным произошел горячий спор о Некрасове. Белинский возражал Боткину. - Здоров будет организм ребенка, если его питать одними сладостями! - говорил Белинский. - Наше общество еще находится в детстве, и если литература будет скрывать от него всю грубость, невежество и мрак, которые его окружают, то нечего и ждать прогресса. Когда коснулись низменной литературной деятельности Некрасова, то Белинский на это ответил: - Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль!.. Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вот мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, ан нет! надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся... Я беседовал с Некрасовым и убежден, что он будет иметь значение в литературе. У вас у всех есть недостаток, - вам нужна внешняя сторона в человеке, чтобы вы протянули ему руку, а для меня главное - его внутренние качества. Хоть пруд пруди людьми с внешним-то лоском, да что пользы-то от них?! Боткин стоял на своем, что грубого реализма в литературе нельзя допускать. Некрасов очень редко бывал у нас в эту зиму, но зато виделся часто с Белинским и стал писать разборы в отделе библиографии "Отечественных Записок". Раз вышла очень смешная сцена. Боткину очень понравился разбор одной книги в библиографии, и он говорил: "Тонко, умно Белинский разобрал книгу, живо, остроумно, прекрасно!" - и при свидании стал хвалить Белинскому его разбор. - Находите, тонко, остроумно я написал? - спросил его Белинский. - Прелестно, изящно! - отвечал Боткин. Белинский рассмеялся и сказал: - Передам вашу похвалу Некрасову, это он разобрал книгу [078]. В эту зиму Панаев познакомился где-то с Марковичем, приехавшим в Петербург делать себе карьеру. Он был замечательно красив собой и сознавал это. О литературе тогда он и не помышлял, все его помыслы были сосредоточены на том, чтобы попасть в высший светский круг. Кроме красивой наружности, Маркович имел светскую полировку [079]. Его взяла под свое покровительство одна придворная старушка Т.Б.Потемкина, игравшая видную роль в аристократическом кругу, и Маркевич сделался бальный танцором, получал приглашения на балы в высшем обществе. Ему страшно хотелось попасть на бал к княгине Е.П.Белосельской; на ее балах всегда присутствовали государь и наследник и самое избранное аристократическое общество. Маркович часто бывал у Панаева и рассказывал ему о своих успехах в светском кругу. Он прибежал, весь сияющий, чтобы показать ему пригласительный билет на бал от Белосельских. В день бала он спозаранку приехал к нам в бальном туалете и поминутно посматривал в окна, начинается ли приезд экипажей. Мы жили против дома князей Белоседьских. Увидав карету какого-то посланника, он решил, что теперь может тоже сесть в наемную карету и переехать улицу, стал натягивать перчатки и, вдруг, о ужас! одна перчатка лопнула. Его школьный приятель, принимавший большое участие в успехах Марковича в светском кругу, поскакал за перчатками, а Маркович страшно волновался и, чуть не плача, глядел в окно и с ужасом говорил: "Боже мой, такая вереница экипажей уже стоит на улице, и мне придется целый час сидеть в карсте, дожидаясь очереди". И точно, долго пришлось Маркевичу ждать, когда дошла до него очередь. Денежные средства его были очень ничтожные для светского молодого человека, и я не знаю, откуда он их добывал. Впрочем, его школьный приятель очень был богат, сам не порывался в высший круг и всей душой желал, чтобы его друг сделал себе блестящую карьеру по службе и в высшем кругу. Но вскоре его друг уехал на Кавказ и там был убит. Марковичу не удалось себе сделать карьеру в Петербурге, он переехал в Москву, служил у генерал-губернатора А.А.Закревского, сделался домашним человеком в его семействе и вращался в высшем московском кругу. Но и в Москве не удалась ему служебная карьера, и тогда уже он сделался литератором. Белинский часто начал прихварывать, очень тяготился своим одиночеством и раз сказал мне: - Право, околеешь ночью, и никто не узнает! Мне одну ночь так было скверно, что я не мог протянуть руки, чтобы зажечь свечу. У Белинского не было прислуги, дворник утром убирал ему комнаты, ставил самовар, чистил платье. Я посоветовала ему жениться, потому что видела в нем все задатки хорошего семьянина [080]. Но Белинский мне на это отвечал: - А чем я буду кормить свою семью? Да и где я найду такую женщину, которая согласилась бы связать свою участь с таким бедняком, как я, да еще хворым? Нет, уж придется околеть одинокому!.. Раз Белинский пришел обедать к нам, и я так хорошо изучила его лицо, что сейчас же догадалась, что он в очень хорошем настроении духа, и не ошиблась, потому что он мне объявил, что получил утром письмо из Москвы от неизвестной ему особы, которая интересуется очень его литературной деятельностью. - Вот и моей особой заинтересовалась женщина, - сказал Белинский. Я поняла, что это намек на тех лиц кружка, которые трезвонят о своих победах. - Я никак не ожидал, чтобы мои статьи читали женщины; а по письму моей почитательницы я вижу, что она все их прочла. - Будете ей отвечать? - спросила я. - Непременно! Переписка Белинского с незнакомой ему особой очень заинтересовала его кружок; об этом толковали между собой его друзья и приставали к нему с расспросами. Я всегда догадывалась по лицу Белинского, когда он получал письмо из Москвы. Приехал в Петербург Ив.Ив.Лажечников в ноябре 1842 года. Белинский еще в Москве хорошо был с ним знаком и привел его к нам обедать. Я очень удивилась, увидя Лажечникова уже седого и почтенных лет. Хотя он был бодрый и живой старик, но все-таки, по тем рассказам о нем, какие я слышала от некоторых литераторов в нашем кружке, я не могла поверить, чтобы Лажечников не прекращал своих ловеласовских похождений. В.П.Боткин привез из Москвы новость о нем, что будто бы Лажечников соблазнил какую-то молоденькую барышню, и она бежала из родительского дома. Белинский на неделю [081] поехал в Москву с Лажечниковым, чтобы немного отдохнуть от работы. Он вернулся оттуда веселым, бодрым, так что все удивились, но я больше всех была поражена, когда Белинский мне сказал: - Я вас удивлю сейчас, я послушался вашего совета и женюсь!.. Не верите?.. Я ведь затем и поехал в Москву, чтобы все кончить там. Я догадалась, что невеста Белинского была та особа, с которой он долго переписывался. - Пожалуйста, только никому не выдавайте моего секрета, начнут приставать ко мне с расспросами. Я знаю, что в нашем кружке любят почесать язычки друг о друге. Пусть узнают тогда, когда женюсь... Как все приготовлю здесь, она приедет - на другой день повенчаемся. Я вас прошу закупить, что нужно для хозяйства, все самое дешевое и только самое необходимое. Мы оба пролетарии... Моя будущая жена не молоденькая и требований никаких не заявит. Теперь мне надо вдвое работать, чтобы покрыть расходы на свадьбу. Веселое настроение Белинского, его охлаждение к преферансу, наши совещания о хозяйственных покупках и записки, которые он мне присылал иногда поздно вечером такого содержания: "Умираю с голоду, пришлите что-нибудь поесть; так заработался, что обедать не хотелось, а теперь чувствую волчий аппетит", - все это породило в кружке сплетни на мой счет. Делались тонкие намеки, что Белинский с некоторых пор изменился, что сейчас видно, когда человек счастлив взаимностью и прочее. Я посмеивалась в душе над предположением друзей, но когда, - конечно, из дружбы, - довели до сведения Панаева о моем особенном расположении к Белинскому, то я возмутилась, тем более, что это же лицо с наслаждением выдавало все секреты Панаева мне, думая расположить меня к себе, но достигало совершенно противоположного результата, потому что я из многих фактов уже видела, что нельзя верить в дружбу, что приятели Панаева в глаза ему поощряют его слабости, а за глаза возмущаются ими и, выманив у него его тайны, разглашают их всюду. Вследствие этого я держала себя довольно далеко от всех и не пускалась ни с кем в откровенности. Я сообщила Белинскому о сплетнях его друзей. - Вот охота вам волноваться о таких пустяках, - отвечал он. - Сами в дураках останутся. Какой это народ странный... нет, что ли, у них других интересов, как заниматься сплетнями, точно простые бабы! Для свадьбы у Белинского все было готово, он ждал только приезда невесты. Белинский венчался в церкви Строительного Училища, на Обуховском проспекте, близ 1-й роты Измайловского полка [082]. Часов в 10 утра он пришел известить меня, что невеста его приехала, и просил, чтоб я отвезла ее в церковь к 12 часам. Панаева ошеломила просьба Белинского приехать в церковь и захватить кого-нибудь еще в свидетели из общих коротких знакомых. "Кто же женится?" - спросил Панаев. "Я, я женюсь!" - смеясь, ответил Белинский. Когда Панаев начал приставать с расспросами, то Белинский ему ответил: "В церкви увидите!" Белинский не мог нанять другую квартиру и остался на своей холостой. Я пришла к Белинскому и познакомилась с его невестой. Он шутя говорил: "Задал я теперь своим приятелям работу, без конца будут судить и рядить о моей женитьбе". Панаев не утерпел и вместо одного свидетеля привез в церковь троих, хотя Белинский и просил его до завтра не объявлять никому о его женитьбе. В церкви Белинский был весел, но когда я возвращалась домой в карете с молодыми, то он сделался молчалив, у него заболела грудь; впрочем, боль скоро прошла, и он опять повеселел. Молодые непременно хотели, чтоб я выпила с ними чаю. Молодая села разливать чай, а Белинский, расхаживая по комнате, шутливо говорил: - Вот я теперь женатый человек, все свои дебоширства должен бросить и сделаться филистером. Смешно было слышать, что Белинский говорил о своих дебоширствах; я в том же шуточном тоне отвечала, что ему надо бросить разорительную игру в преферанс. - Ну, уж наставление мне читаете, как почтенная посаженая мать! - смеялся он. Белинский всегда писал, стоя у конторки; долго сидеть он не мог, потому что у него тотчас разбаливалась грудь. Когда он подошел к конторке и взялся - за перо, я его спросила, неужели он хочет писать... - Не хочу, а должен, в типографии ждут набора, терпеть не могу, когда за мной остановка. Находите, что молодому неприлично работать? Успокойтесь, у меня жена не девочка, не надуется на меня за это. Вы разговаривайте, мне еще веселее будет писать. Но Белинскому не удалось заняться: кухарка, нанятая мной для молодых, так начадила в кухне, которая была возле, что Белинский закашлялся, бросил работу, и мы удалились в другую комнату, - надо было отворить форточку и двери в сени, чтоб уничтожить чад. Белинский, смеясь, сказал мне: - Вами рекомендованная кухарка, должно быть, нарочно начадила, найдя тоже, что молодому неприлично в день свадьбы работать. Женитьба Белинского произвела сильное волнение в кружке; все были поражены такой новостью, некоторые его приятели даже обиделись на то, что Белинский скрыл от них свое намерение. Разговорам об этом не было конца. Теснота квартиры, частая перемена дешевых кухарок и всякие хозяйственные мелочи, неизбежные в том хозяйстве, где должны беречь каждую копейку, волновали Белинского, и он иногда задавал мне вопрос: "Да неужели нельзя найти порядочную кухарку, не пьяницу, не крикунью-грубиянку?" Я ему растолковывала, что хорошая кухарка будет дорога, да и не станет спать у самой плиты и стряпать в полутемной кухоньке. - А-а!.. значит, я должен помириться с своей домашней обстановкой! Нечего мне и волноваться, что в два месяца у нас переменилось восемь кухарок. Теперь на их грязь и грубости я буду смотреть спокойно, только приму меры, буду затыкать уши канатом, когда начнется руготня в кухне. Через год у Белинского родилась дочь, расходы увеличились. На лето он переехал на дачу около Лесного, или куда-то недалеко от города. Что это была за дача! Изба, перегороженная не до потолка, в которой с одной стороны была кухня, а с другой его комната, вроде чуланчика, где он работал и спал. В жаркие дни можно было задохнуться от духоты на этой даче, а в дождливые - продрогнуть до костей от сырости и сквозного ветра, дувшего из щелей пола и из стен. Те литераторы, которые не видели Белинского в этой обстановке, только и могут писать в своих воспоминаниях о нем, что в нем развилась чахотка не от лишений, а от его нервного характера. В кружке близких его друзей были некоторые лица с хорошими средствами, но им в голову не приходило прийти на помощь Белинскому, когда он нуждался, а Белинскому также не приходило в голову обращаться к ним. Если ему не хватало денег, чтобы дотянуть месяц, он всегда сначала осведомлялся у меня: "Есть ли у Панаева лишние деньги?" - и, заняв, спешил отдать свой ничтожный долг, как только получал сам деньги за работу. Я имела также случай видеть некоторых лиц, не принадлежавших к литературному кружку Белинского, например, Булгарина, на которого большинство литераторов смотрело, как на прокаженного, гнушаясь с ним кланяться на улице, а тем более быть с ним в одном обществе. Я была очень дружна с женой Межевича, которую знала еще в девушках; она была очень хорошенькая, образованная и умная, и была не пара Межевичу, человеку доброму, но без всяких принципов [083]. Межевич давно был влюблен в мою приятельницу и делал ей предложение, когда жил в Москве. Через год по приезде своем в Петербург, устроившись редактором "Полицейской Газеты", он во второй раз сделал предложение и писал своему московскому другу, что, если получит опять отказ от давно любимой им девушки, то застрелится. Это письмо друг Межевича показал моей приятельнице, у которой был свой несчастный роман; она, не рассчитывая более на личное свое счастье и не желая быть причиной смерти Межевича, вышла за него замуж. Приезд Белинского в Петербург и его непосредственное сотрудничество в "Отечественных Записках" обидели Межевича; он не мог рассчитывать на работу в журнале, как прежде, и перебежал к Булгарину. В доме Межевича мне случилось встретить Булгарина. Он считал своею обязанностью являться с поздравлением к жене Межевича в торжественные дни года. Черты его лица были, вообще, непривлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рот и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах. Мне рассказывала Межевич, что Булгарин, в своей семейной жизни, был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена, немка, и ее тетка распоряжались по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мелкие доходцы, получаемые от фруктовых магазинов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете. У той же моей приятельницы я встречала Строева. Она, зная его печальную семейную обстановку, относилась к нему с участием. Строев жил уже несколько лет в гражданском браке с необразованной, грубой по натуре женщиной, имел от нее несколько человек детей и, несмотря на все безобразные сцены, какие ему делала его сожительница, не бросал ее. Строев был хорошо воспитан и образован, говорил по-французски, как парижанин, манеры его были изящные, он умел занять интересным разговором. Строев страшно нуждался и брал всякую работу, только бы добыть денег на содержание своей семьи. А известно, что, если знают, что человек нуждается в работе, то его прижимают, и Строев переводил книги для книгопродавцев за баснословно дешевую цену [084]. В доме Межевича при мне возникла мысль издавать журнал "Пантеон". Это придумали Межевич, Строев и Аполлон Григорьев. У их приятеля - И.И.Песоцкого были деньги, они и подбили его издавать журнал. Песоцкий был человек совсем неподготовленный к литературной деятельности, даже вовсе необразованный, но ему лестно было видеть свое имя на обертке журнала, притом же ему наобещали большие барыши. Программа "Пантеона" исключительно была посвящена сценическому искусству. Журналом дирижировали Межевич, Строев и еще кто-то, а Песоцкий только платил деньги. При .выпуске первого номера "Пантеона" задан был торжественный обед в ресторане, где пировали все сотрудники и посторонние гости, говорились речи, провозглашали тосты за Песоцкого и качали его на руках. Но подписка на журнал была плохая, а расходов на него много: Песоцкий был щедр, скоро ухлопал все свои деньги и передал "Пантеон", кажется, Кони [085]. Григорьев доверял все свои сокровенные тайны жене Межевича. Он платонически был влюблен в общую им знакомую даму, находил в ней сходство с Офелией, и когда сходился с ней у Межевичей, то садился на скамейке у ее ног, декламировал монологи из Гамлета и посвящал ей свои- стихи. Только Григорьев и мог находить в своем предмете сходство с Офелией. Это была женщина лет под тридцать, очень полная, с круглым красивым лицом, с светлыми жидкими волосами. Впрочем, у Григорьева была очень сильная фантазия. Он вдруг из западника превра-тился в ярого славянофила, надел красную рубаху, плисовую поддевку и в этом костюме садился в первые ряды кресел в Александрийском театре, обращая на себя всеобщее внимание [086]. У моей приятельницы я познакомилась также с А.Е.Варламовым, композитором романсов. Моя приятельница знала его самого и его жену в Москве до их женитьбы. Варламовы почему-то переселились в Петербург на житье. У Варламова были уроки пения в богатых домах, но он очень манкировал уроками. Я редко встречала супругов, которые так были бы сходны по характеру, оба добрые, готовые всегда помочь нуждающимся, когда у них были деньги. Они не думали о завтрашнем дне, а наслаждались жизнью при всяком удобном случае. Если Варламов получал деньги за уроки или за продажу своего нового романса, то задавал пир горой, а вскоре затем приходил к жене Межевича мрачный, потому что его жена и дети сидят без обеда, лавочники не отпускали более в кредит провизии, требуя уплаты долга. - Ехали бы домой, сочинили бы романс, продали бы его, вот и будут у вас деньги, - советовала Варламову моя приятельница Варламов ударял себя по лбу и просил ее выбрать коротенькие стихи какого-нибудь поэта. С книгой он отправлялся в залу, садился за фортепиано и сочинял музыку. Домой он боялся идти, опасаясь атаки лавочников. Через некоторое время Варламов являлся в комнату, где мы сидели, и пел новый свой романс, уже положенный на ноты. Варламову было тогда лет под 50, голоса у него уже не было никакого, а в молодости, говорили, у него был очень приятный тенор. Варламов торопливо прощался, спеша в музыкальный магазин запродать свой романс. Через три часа муж и жена Варламовы приезжали уже в коляске с корзиной вина и приглашали Межевичей на вечер. Когда моя приятельница вышла замуж за Межевича, я предполагала с огорчением, что она непременно должна раскаяться в том, что связала свою судьбу с Межевичем, но вышло наоборот. Она страшно мучилась, что погубила его жизнь и ему пришлось жить с такой болезненной женой. Моя приятельница через месяц после свадьбы захворала и в продолжение пяти лет не выходила из своей комнаты, испытывая страшные физические и нравственные страдания. Ее хорошенькое личико было неузнаваемо от болезни, да и весь ее организм разрушился; доктора уверяли ее, что она страшно золотушна, и петербургский климат вызвал болезнь наружу [087]. У моей приятельницы была необыкновенная сила воли; в присутствии мужа она скрывала свои страдания, всегда была кротка и весела; только мне она доверяла, как нетерпеливо ждет смерти, чтобы освободить своего мужа. Она упрашивала его, чтобы он положил ее в больницу, но Межевич и слышать не хотел об этом. Он чувствовал, что пропадет без жены, потому что она не раз выпутывала его из критического положения. Около Межевича всегда юлила какая-нибудь подозрительная личность, прикидываясь его закадычным другом, брала на честное слово на три дня у него деньги из подписки на "Полицейскую Газету", тысячи две, и исчезала. Межевич приходил в отчаяние, которым и ограничивались его меры к пополнению кассы. Тогда его жена писала в Москву к своим знакомым, прося в долг денег, пополняла кассу, а сама день и ночь переводила романы и всякую всячину для книгопродавцев и уплачивала долг. Бывало, придешь к ней, она едва сдерживает стоны от боли в ногах, но работает и говорит в отчаянии: "Только бы мне уплатить последние деньги своего долга, пусть тогда приходит смерть, я ее радостно встречу". Зачастую Межевич засиживался в гостях и не являлся к 12 часам ночи домой, чтобы проредактировать и сдать в типографию номер газеты. Тогда его больная жена исполняла обязанности редактора. Межевич нередко получал выговоры, и его даже сажали под арест за разные недосмотры в "Полицейской Газете". Раз его посадили на три дня под арест по следующему случаю. Какой-то шутник принес объявление о сбежавшем у него бульдоге и описал приметы, очень схожие с личностью одного тогдашнего значительного лица в администрации, и приложил адрес дома, где это лицо занимало казенную квартиру, прибавив: "Кто доставит сбежавшего бульдога, тот получит приличное вознаграждение". Через несколько месяцев Межевича снова посадили под арест, но уже на две недели, за то, что он в официальном известии напечатал вместо "его высочество великий князь Михаил Павлович" - просто "князь Михаил Павлович". Межевич подал запрос в канцелярию обер-полицеймейстера: "Кому передать редактирование газеты?" - и получил ответ: "Тому же лицу, кто редактировал газету, когда он три дня сидел под арестом". Так как редактировала жена Межевича, то и теперь, в течение двух недель, она распоряжалась газетой и не сделала ни одного промаха. Я стала ее звать "редакторшей". Тогда казалось смешным и диким, чтобы женщина могла носить такое название. Межевич сделался врагом Панаева, после того, как Панаев напечатал рассказ "Литературная Тля", где, по правде сказать, он не поцеремонился и описал слишком верно наружность Межевича, даже его привычку часто поправлять очки и разные факты из его частной и литературной жизни. Но эта вражда мужей не мешала нашей дружбе. Впрочем, и впоследствии, когда издавался "Современник", я не входила в литературные распри и не прекращала своего знакомства с сотрудниками "Отечественных Записок", с которыми была знакома до "Современника", - конечно, если только эти сотрудники не занимались сплетнями, перенося их из одной редакции в другую. После смерти жены Межевича, само собою разумеется, я уже не видала сотрудников Булгарина и самого Межевича, который чрез несколько месяцев сам умер от холеры. И в какой печальной обстановке! Девица, с которой он свел интрижку, увидав, что ночью у Межевича началась холера, вместо того, чтобы разбудить прислугу, которая находилась далеко от комнат, и послать за доктором, взяла в бумажнике деньги, часы, серебро и убежала через парадный ход. Утром прислуга нашла Межевича уже полумертвого, и докторская помощь оказалась бесполезной. Да и кстати покончил свое существование Межевич, потому что после смерти жены нашелся такой человек, который из дружбы взялся заведовать хозяйственною частью "Полицейской Газеты" и типографиею, набивал себе карман, а долги свалил на умершего Межевича. Этот господин, как бы в награду за свои способности к наживе, пошел в гору по службе и разбогател. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |