| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
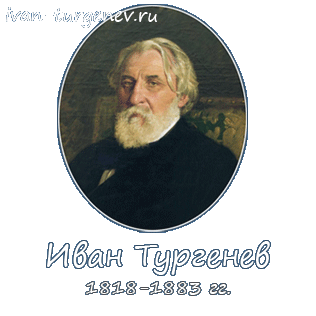
За границей. Сороковые годы - Тургенев и Белинский - Биографический очерк Евгения СоловьеваЯ говорил уже о причинах, заставлявших Тургенева рваться за границу. Однако осуществить страстное намерение было нелегко. Недостатка в средствах не ощущалось, но В.П. Тургенева как раз к этому времени переселилась в Петербург и не имела ни малейшего желания отпускать от себя, да еще в такую даль, своего любимого сына, тем более что со старшим, Николаем, она только что рассорилась из-за его женитьбы. Но все же Тургеневу удалось добиться согласия матери на поездку, и после долгих сборов в назначенный день он сел на пароход "Николай I", отправлявшийся в Любек. Нечего и говорить о его радости. Двадцати лет от роду, молодой, здоровый, богатый, ничем не связанный в жизни, он ехал в столицу европейской мысли, туда, где била ключом "чистейшая эссенция философии", словом - в Берлин. По дороге Тургенев едва не погиб, так как пароход сгорел на море, и пассажиры с трудом высадились на берег в шлюпках. Этот эпизод послужил темой для прелестного рассказа Тургенева "Пожар на море", написанного им за месяц до смерти в 1883 году, и для кое-каких литературных сплетен, изображавших Тургенева в комическом виде. Но на этих сплетнях, по их незначительности, останавливаться мы не будем. В Берлине Тургенев в два приезда пробыл около двух лет. Из числа русских, слушавших университетские лекции, особенно близко сошелся он с Грановским и Станкевичем, которые, как всякий это знает, оба были горячими западниками, а несколько позже - с М. Бакуниным, ярым гегельянцем и даже пророком гегельянства в России. Сам он занимался философией, древними языками, историей и с особенным рвением изучал Гегеля под руководством профессора Вердера. Под влиянием впечатлений заграничной жизни он стал ярым западником. Западничеству - заметим это кстати - суждено было сыграть в его жизни существеннейшую роль. За западничество он подвергался бесчисленным нападкам, выносил даже ненависть; за западничество его же возносили, забрасывая похвалами; сам он видел в западничестве красную нить своей умственной жизни; во имя его он создал своего Потугина, он вдохновлялся им, сочиняя резкие тирады против добродетелей и дарований, якобы исключительно присущих русскому народу. Мы еще вернемся к смыслу западничества в его противопоставлении славянофильству, пока же будем продолжать наш рассказ. В Берлине Тургеневу жилось весело и хорошо. Известно, что никогда: ни раньше, ни позже, - русская интеллигентная молодежь не занималась так много разговорами и словопрениями, как в период тридцатых и сороковых годов. Возле разговоров сосредоточивались зачастую весь смысл и интересы бытия. Затрагивались и решались tant bien, que mal [кое-как, с грехом пополам (фрЈ)Ј] огромнейшие и отвлеченнейшие вопросы о Боге, бессмертии души, особенностях народов, назначении человека, правах и обязанностях личности. Все даровитые люди отличались поразительной словоохотливостью и пристрастием к спорам. Споры продолжались целыми днями и ночами, а иногда и сутками - без перерыва! - тянулись же неделями и месяцами. Много тут было, разумеется, комического, ненужного, напоминавшего лепет ребенка, только что научившегося говорить и лепечущего без устали обо всем; много и важного, интересного, так как во время прений слагались убеждения, которым люди оставались верными порою в течение всей своей жизни. Разговорами отводили душу, тем более что все вело к разговорам. Мерзость настоящего, неопределенность будущего, отсутствие какого бы то ни было жизненного дела, полная материальная обеспеченность лучших интеллигентов того времени (за исключением Белинского), изобилие шампанского, без которого не обходилась ни одна вечеринка, потребность свободы, хотя бы только у себя в дружеском кружке, сама легкость разговора, основывавшегося не на фактах, а на принципах и аксиомах гегелевской философии, - все это вдохновляло, горячило, делало слово, спор сущностью жизни, ее прелестью и красотой. Нет, мы даже не умеем говорить так искренно, с таким увлечением, как наши деды, нам совестно было бы говорить так много, с таким азартом, как 50 лет тому назад. Но перенеситесь в ту эпоху и вы увидите, что нельзя было не говорить, надо было говорить, чтобы хотя на минуту отвести душу. Вот Бакунин развалился на диване и занял его весь своей огромной фигурой; он гремит своим раскатистым голосом, наизусть цитирует целые страницы из Гегеля, не задумываясь решает великие и малые вопросы; что-то богатырское есть в его фигуре, голосе, жестах; где-нибудь у окна присел тихий прекрасный Станкевич, с доброй улыбкой на больном лице, с восторженными глазами; он ждет минуты, чтобы вставить свое задушевное слово; вот и сам Тургенев, тоже гигант ростом и умом, но тогда еще ученик, покорно выслушивающий поучения старших; Грановский со своим задумчивым, рассеянным взглядом, с изящной речью, серебристым подкупающим голосом. Пройдет немного лет, и за теми же разговорами мы застанем новых лиц, хотя и не увидим уже прекрасного лица Станкевича и не услышим больше его задушевного голоса. Сверкая глазами и бегая из угла в угол по комнате, будет волноваться Белинский и нападать с комической яростью на баричей, вроде Тургенева, за их безделье, за привязанность к чистой красоте и, размахивая руками, кричать своим тонким голоском, волнуясь и спеша. Небольшая, вся созданная из мускулов и нервов фигура Герцена займет центральное место. Его речь, "дьявольски умная" (как говорит Белинский), полная острот, неожиданных сопоставлений, обаяния огромного отточенного ума, составит эпоху в этих разговорах и поведет за собою многих и многих из слушающих его. Он заставит робких людей (как Грановский, Кавелин) еще глубже уйти в себя, но он вызовет к жизни все деятельное, энергичное, и море слов перестанет так бесцельно волноваться и шуметь. Проследите эти разговоры и вы найдете в них тридцатые годы с их романтизмом и культом Гегеля, сороковые с их народничеством, а в лице Герцена, Некрасова перед вами предстанет первый образ шестидесятых рабочих годов... В Берлине, повторяю, Тургеневу жилось хорошо, весело. В семействе Фроловых часто собирались русские студенты и встречали здесь всегда ласковый, задушевный прием. Сам Тургенев поселился на квартире с одним из своих русских товарищей, увлеченных по моде того времени Гегелем до мозга костей. Товарищ заставлял его штудировать философию и отечески следил за его нравственностью. Так прошли два года, за время которых случилось только одно поистине грустное событие - смерть Станкевича. Вот что писал по этому поводу Тургенев Грановскому: "Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва я могу собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой. 24 июня в Нови скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо. Что остается мне сказать? К чему вам теперь мои слова? Не для вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме, я его видел каждый день и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души. Тень близкой смерти уже тогда лежала на нем... Я оглядываюсь, ищу напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю?.. Кто достойней примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой?.. Но нет, мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь - дадим друг другу руки, станем теснее: один из нас упал, быть может лучший. Но возникают, возникнут другие: рука Бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений, и рано или поздно свет победит тьму". Как ни риторична форма этого письма - оно несомненно искренне. Вернувшись из-за границы, Тургенев в 1843 году впер вые серьезно вступил на литературное поприще своей поэмой "Параша". Ничего особенного, выдающегося, чего-нибудь такого, что предвещало бы нарождение нового крупного таланта, в этом произведении нет. Однако оно возбудило довольно шумные толки, так как западничество Тургенева выявилось в "Параше" полностью и даже с юношеским задором. "Заподозрив в нем, - говорит Анненков,- с первых же его шагов истого западника, партия, недружелюбно смотревшая на образцы чуждого воспитания и развития, словно задалась мыслью собрать как можно более помех на его жизненном пути. Целая коллекция пустых анекдотов о его словах, выражениях, замечаниях собиралась тщательно противниками и пускалась в ход с нужными прикрасами и дополнениями. О произведениях Тургенева до "Записок охотника" иначе и не говорили, как о чудовищностях западного развития, пересаженных на русскую почву без всякого признака таланта. Не так думал Белинский, открывший сразу в "Параше" признаки недюжинной авторской наблюдательности и способности выбирать оригинальную точку зрения на предметы. "Что мне за дело до всех анекдотов о нем, - говорил Белинский, - кто написал "Парашу", тот сумеет поправить себя в чем будет нужно и когда будет нужно..." Сам Тургенев между тем, выпустив в свет "Парашу", уехал в Спасское и жил там, со страстью отдаваясь своему любимому занятию - охоте. Единственное, чего он ждал, была рецензия Белинского, которая, как он знал, должна была появиться в "Отечественных записках". Пробовал он было читать свою вещь в Спасском матери, но Варвара Петровна только зевала, слушая стихи, и покачивала головой, удивляясь сыну, которому была охота сочинять канты. "Постичь не могу, - говаривала она, - какая тебе охота быть писателем? Дворянское ли это дело? По-моему, писатель и писарь - одно и то же... И тот, и другой за деньги бумагу марают... Дворянин должен служить и составить себе карьеру и имя службой, а не бумагомараньем... Да и кто же читает русские книги?" - "Но ведь ты же сама любила и уважала Жуковского", - возражал Тургенев. "Ах, это совсем другое - Жуковский! Как его не уважать, - ты знаешь, как он близок ко двору". В душе Варвара Петровна решила, что сын блажит, и мешать его блажи не хотела: сама пройдет... Да и почему не поблажить в 25 лет? Ведь блажь - тоже дворянское дело. Но вот наступил май, и в новой книге "Отечественных записок" появилась нетерпеливо ожидавшаяся рецензия Белинского. Тургенев нервно, торопливо разрезал страницы, зная, что он принимает в эту минуту огненное крещение, и с замирающим от восторга сердцем прочел немногие посвященные ему строки. Вот что, между прочим, писал Белинский: "Стиль в поэме обнаруживает необыкновенный поэтический талант; а верная наблюдательность, глубокая мысль, выхваченная из тайника русской жизни, изящная и тонкая ирония, под которою скрывается столько чувства,- все это показывает в авторе, кроме дара творчества, сына нашего времени, носящего в груди своей все скорби и вопросы его. Об оригинальности мы не говорим: она то же, что талант - по крайней мере, без нее нет таланта. Многие найдут в поэме следы подражания Пушкину и особенно Лермонтову: это не удивительно, ибо живая историческая последовательность литературных явлений всегда смешивается толпою с холодной и бездушной подражательностью. Но люди мыслящие понимают, что быть под неизбежным влиянием великих мастеров родной литературы, проявляя в своих произведениях упроченное ими литературе и обществу, и рабски подражать - совсем не одно и то же: первое есть доказательство таланта, жизненно развивающегося, второе - бесталантности". Далее Белинский, определяя сущность таланта Тургенева, заметил, что основой его является "глубокое чувство действительности". Легко понять, как такой отзыв должен был подействовать на молодого писателя. "Силы его удесятерились". Он почувствовал, что "любит весь свет", а больше всего на свете - Белинского. Он тут же дал себе клятву "сойтись с ним" и сделаться его "другом и учеником". Очень может быть, что в настоящее время отзыв Белинского о "Параше" покажется слишком восторженным. Если в юношеской поэме и были красивые места, прелестные описания природы, то были, разумеется, и существенные недостатки, например, ненужные и неудачные остроты, растянутость, бледность красок в драматических сценах, отсутствие страстности и художественной полноты. Тургенев, вообще говоря, развивался очень медленно. Только тридцати лет он стал настоящим писателем и впервые ("Хорь и Калиныч") проявил свой огромный талант. Раньше он только пробовал: сочинял стихи и драмы и, гоняясь за эффектами, брал даже сюжеты из испанской жизни ("Неосторожность"), комично вплетая в них русские либеральные тенденции. "Параша" сыграла громадную роль в жизни самого Тургенева и ровно никакой в истории русской литературы. Забыть ее можно с таким же правом, с каким, например, "Ганса Кюхельганца" Гоголя. Белинский переоценил художественные достоинства поэмы, но он угадал талант, он угадал новое огромное дарование и приветствовал "Парашу" с таким же восторгом, как "Петербургские углы" Некрасова, "Бедных людей" Достоевского, "Обыкновенную историю" Гончарова. Мы же, имея перед собой "Отцов и детей", смело можем не останавливаться на "Параше". По одному пункту, впрочем, можно сказать несколько слов. Я имею в виду и западническую тенденцию рассказа, и западнические взгляды автора. Что такое западничество? Теперь это не более, как один из моментов, пережитых "бедной русской мыслью", одно из увлечений чисто теоретических, очень полезных в свое время, ненужных в наши дни. Говоря так, я не забываю, что западниками были Белинский, Грановский, Кавелин, но думаю, что западники вроде них были бы теперь излишним анахронизмом. Мы уже имеем больше права критически относиться к европейской жизни, чем они, и стоять на той точке зрения, к какой перешел в конце Герцен, с какой Добролюбов смотрел на Кавура. Это точка зрения экономического реализма прежде всего. Если мы как западники можем хотеть свободы личности, то мы знаем в то же время, что в Европе эта свобода далеко еще не осуществлена, в доказательство чего можно привести рабочий и женский вопросы. Но в 40-е годы, когда существовало крепостничество, когда генерал постороннего ведомства читал на улицах нотации каждому встречному и поперечному, когда надо было бороться с "ложновеличавым" или попросту "барабанным" направлением литературы, политики, самой жизни, когда идея русского патриотизма смущала лучшие умы (Аксакова, Киреевского, Хомякова), - быть западником значило быть передовым человеком. Жизненный смысл западничества - прежде всего в его противодействии славянофильству, в его критицизме. Недостаток славянофилов - прежде всего в их самодовольстве, в полнейшей невозможности осуществить их стремления. Славянофилы, требуя уничтожения крепостничества, были правы, велики, мудры. Те же славянофилы, уверяя, что формы западной культуры вредны для нас, что русский народ призван совершить нечто особенное и важное, а именно обновить человечество, грешили тем, что породили самохвальство и боязнь мысли. Западники говорили: европейская культура выше нашей русской; все, что есть хорошего в нашей жизни, взято нами у Европы; мы должны твердо держаться пути, указанного нам Петром Великим. В этих словах заключалась не только верная (отчасти) мысль, но и программа деятельности. Подобной программы не было у славянофилов, страдавших, между прочим, склонностью к звучным фразам. Они не любили Петербурга и восторгались Москвой; они считали вредной реформу Петра и звали назад, к укладам русского народоправства (вече, Соборы и пр.), как будто можно было вернуться туда; они верили, что в области духа русские скажут последнее слово, и вместе с тем сами отличались туманностью и неопределенностью мысли; они по-детски дорожили формой в одежде, в языке, в религии; они думали, что надеть сарафан или красную кумачную рубаху - значило уже сделать что-то такое важное. Люди даровитые, честные, они, однако, не завещали нам ничего ценного, и причина этого заключалась в том, что славянофилы сами не знали хорошенько, чего они хотели. Припоминаю по этому поводу смешной анекдот. Однажды на балу К. Аксаков горячо убеждал какую-то даму бросить парижские моды и облечься в сарафан. К разговаривавшим подошел московский генерал-губернатор, при котором Аксаков продолжал - и еще с большим увлечением - развивать свои мысли. Один из гостей, проходя мимо Чаадаева, по обыкновению стоявшего в стороне и иронически улыбавшегося, спросил: "О чем это Аксаков говорит с генерал-губернатором?" - "Не знаю, право,- отвечал Чаадаев,-но кажется, Константин Сергеевич убеждает генерала снять мундир и надеть вместо него сарафан". Si non e vero...[Si non e vero e ben trovato - если и не правда, то хорошо придумано (um.).] "Казалось, - говорит Анненков, - сама история, наметившая для России два столичных центра, тем самым указала два противоположных пункта, с которых должны были вспыхнуть все эти споры и искания общественных основ и идеалов. Все общество распалось на два враждебных лагеря. Одни, "москвичи", "славяне" или "славянофилы", с особенным азартом отстаивая сначала все без исключения русское, давая всем пришлым элементам, за исключением византийского, самое ничтожное значение в развитии государства, смотрели подчас на них, как на несчастие, помешавшее народу выразить всю свою сущность, доходили при этом до крайностей в идеализации этого народа, превознося чрезмерно смирение, кротость, мудрость; утверждали даже, что земля русская удобрялась для истории не как земля западных народов кровью населения, а только слезами его. С этой стороны выдвинулся целый ряд талантливых вожаков мысли, как К. Аксаков, Киреевский, Хомяков, которые с большим умением отстаивали свои идеи национальности в тогдашнем журнале "Москвитянин". В свою очередь зло и с большим знанием дела им отвечала петербургская партия "западников", органом которых с 1840 года сделались "Отечественные записки", где в то время начали писать Белинский, Грановский. Эти, напротив, влиянию посторонних, пришлых национальностей отводили значительное место в образовании всего Московского государства, в определении хода всей его истории, при этом в своей резкой проповеди общечеловеческого развития, законы которого одинаковы, как они утверждали, для всех стран, доходили иногда до отрицания всяких народных отличий. Живой спор этот положил резкую печать разделения на две партии не только на тогдашнюю журналистику, но даже и на все читающее общество. Нужно было видеть тот восторг, то яркое пробуждение общества, когда в 1843 году молодой и талантливый историк Грановский выступил со своими замечательными публичными лекциями. Я еще застал, - продолжает П.В. Анненков, - ученое и, так сказать, междусословное торжество, происходившее в Москве по случаю первых публичных лекций Грановского, собравшего около себя не только людей науки, все литературные партии и обычных восторженных своих слушателей - молодежь университета, - но и весь образованный класс города - от стариков, только что покинувших ломберные столы, до девиц, еще не отдохнувших после подвигов на паркете, и от губернских чиновников до неслужащих дворян... Большинство слушателей понимало его хорошо, так поняло оно и лекцию о Карле Великом, на которую я и попал... Когда, в заключение своих лекций, профессор обратился прямо от себя к публике, напоминая ей, какой необъятный долг благодарности лежит на нас по отношению к Европе, от которой мы даром получили блага цивилизации и человеческого существования, доставшиеся ей путем кровавых трудов и горьких опытов,- голос его покрылся взрывом рукоплесканий, раздавшимся во всех концах аудитории". Разумеется, что не раз делавшиеся попытки примирить западников и славянофилов не приводили ни к чему. Славянофильство - учение сердца, подчас по-маниловски настроенного (например у Загоскина),- не шло ни на какие соглашения; оно, по-видимому, отвечало потребности русского человека восторгаться хотя бы такою смутною вещью, как русская подоплека или старорусское народоправство. Теперь славянофильство окончательно выдохлось и никогда не залечит ударов, нанесенных ему Белинским, Герценом, Тургеневым и особенно Вл. Соловьевым ("Национальный вопрос", 2 т.). Но выдохлось и западничество, ибо основа его была чисто теоретическая, отвлеченная. Европейская культура выше нашей, но основного зла европейской культуры - экономического неравенства и борьбы классов - чистые западники, как, например, Тургенев и Грановский, видеть не хотели. Свобода науки и исследования, веротерпимость, свобода слова и мысли были в их глазах настолько ценными благами, что в стремлении к ним они полагали смысл гражданской деятельности каждого образованного человека. Самым ценным элементом западничества является его критицизм, вытекавшим из сопоставления русских форм жизни с европейскими, и практичность. Западник знал, что ему делать и как ему делать. Жизнь на его стороне, и каждый день - хотим ли мы этого или не хотим - наша культура сближается с европейской. Это-то и заставляет оставить симпатичную и высокую идею русского мессианизма, так как до сей поры держится в тайне, в чем сущность этого мессианизма и когда для него наступит время. Отвращение к крепостничеству, поездка за границу, дружба с Грановским и Станкевичем, любовь к европейской литературе сделали Тургенева западником. Влияние Белинского могущественно действовало в том же направлении. Я перехожу теперь к этому влиянию и замечу предварительно, что близость к Белинскому - самое поэтичное и лучшее, что было в его жизни. "Возвратившись в Петербург из Спасского (летом 1843 года), - пишет Тургенев, - я отправился к Белинскому, и знакомство наше началось. Он вскоре уехал в Москву - жениться - и потом поселился на даче в Лесном. Я также нанял дачу в первом Парголове и до самой осени почти каждый день посещал Белинского. Я полюбил его искренне и глубоко; он благоволил ко мне... Когда я познакомился с ним, его мучили сомнения. Эту фразу я часто слышал и сам применял ее неоднажды, но действительно и вполне она применялась к одному Белинскому. Сомнения его именно мучили его, лишали его сна, пищи, неотступно жгли и грызли его; он не позволял себе забыться и не знал усталости; он денно и нощно бился над разрешением вопросов, которые сам задавал себе. Бывало, как только я приду к нему, он, исхудалый, больной (с ним сделалось тогда воспаление в легких и чуть не унесло его в могилу), тотчас вставал с дивана и едва слышным голосом, беспрестанно кашляя, с пульсом, бившим сто раз в минуту, с неровным румянцем на щеках, начинал прерванную накануне беседу. Искренность его действовала на меня, его огонь сообщался и мне, важность предмета меня увлекала; но, поговорив часа два-три, я ослабевал, легкомыслие молодости брало свое, мне хотелось отдохнуть, я думал о прогулке, об обеде, сама жена Белинского умоляла и мужа, и меня хотя немножко погодить, хотя на время прервать эти прения, напоминала ему предписание врача... но с Белинским сладить было нелегко. "Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, - сказал он мне однажды с горьким упреком,- а вы хотите есть!.." Сознаюсь, - продолжает Тургенев, - что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей... Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова, и если при воспоминании об этой небоязни смешного улыбка может придти на уста, то разве улыбка умиления и удивления. Лишь добившись удовлетворившего его в то время результата, Белинский успокоился и, отложив размышления о тех капитальных вопросах, возвратился к ежедневным трудам и занятиям. Со мною он говорил особенно охотно потому, что я недавно вернулся из Берлина, где в течение двух семестров занимался гегелевской философией, и был в состоянии передать ему самые свежие, последние выводы". Лето 1843 года закрепило дружеские отношения, конец которым был положен лишь смертью Белинского. Несомненно, что он имел на Тургенева большое нравственное влияние, все равно как и на других членов своего кружка, на Некрасова например. Напомню, что сказал однажды последний: "Заняться своим образованием у меня не было времени, надо было думать о том, чтобы не умереть с голоду. Я попал в такой литературный кружок, в котором скорее можно было отупеть, чем развиться. Моя встреча с Белинским была для меня спасением... Что бы ему пожить подольше!.. Я бы был не тем человеком, каким теперь..." Спасать Тургенева было не от чего, но такие люди, как Белинский, укрепляют правду в сердцах всех, кто сходится с ними. Любопытно, между прочим, что к Тургеневу Белинский относился по-отечески и зачастую журил его за барские замашки, за юношескую хвастливость, подчас и за фразерство. Передам несколько эпизодов. Однажды, например, Тургенев занял денег у Некрасова и долго не отдавал, так как сам сидел без гроша. Об этом рассказали Белинскому. Он, придя к Панаевым, как нарочно встретил там Тургенева, собиравшегося идти обедать к Дюссо. Белинский знал, что обыкновенно по четвергам в этот модный ресторан сходилось много аристократической молодежи обедать, и накинулся на Тургенева: "К чему вы разыгрываете барина? Гораздо проще было бы взять деньги за свою работу, чем, сделав одолжение человеку, обращаться сейчас же к нему с займами денег. Понятно, что Некрасову неловко вам отказывать, и он сам занимает для вас деньги, платя жидовские проценты. Добро бы вам нужны были деньги на что-нибудь путное, а то пошикарить у Дюссо..." И пошел, и пошел. Тургенев очень походил на провинившегося школьника и возразил: "Да ведь не преступление я сделал; я ведь отдам Некрасову эти деньги... Просто необдуманно поступил".- "Так вперед обдумывайте хорошенько, что делаете; я для этого и говорил вам так резко, чтобы вы позорче следили за собой". Такие нагоняи Тургеневу приходилось получать нередко. "Разносил" его Белинский также за лень и неаккуратность. "В 1848 году, - рассказывает Головачев в воспоминаниях, - Тургенев, вернувшись поздней осенью из деревни, шумно выражал свою радость по поводу задуманного издания "Современника". Белинский ему заметил: - Вы не словами высказывайте свое участие, а на деле. - Даю вам честное слово, что я буду самым ревностным сотрудником будущего "Современника". - Не такое ли даете слово, какое вы мне дали, уезжая в деревню, что, возвратясь, вручите мне ваш рассказ для моего "Альманаха"? - спросил ироническим тоном Белинский. - Он у меня написан для вас, только надо его обделать... - Лучше уж прямо бы сознались, что он не окончен, чем вилять. - Клянусь вам, что осталось работы не более, как на неделю. - Знаю я вас, пойдете шляться по светским салончикам. Кажется, не мало времени сидели в деревне и то не могли окончить. Тургенев клялся, что с завтрашнего утра засядет за работу и, пока не окончит, сам никуда не выйдет и к себе никого не примет. Белинский на это ответил: - Все вы одного поля ягодки, на словах любите разводить бобы, а чуть коснулось дела, так не шевельнут и пальцем... да и я-то хорош гусь, кажется, не первый день вас знаю, а имел глупость рассчитывать на ваше обещание... Ну, смотрите, Тургенев, если вы не сдержите своего обещания, что все вами написанное будет исключительно печататься в "Современнике", то так и знайте, - я вам руки не подам, не пущу на порог своего дома! Все присутствующие улыбались на угрозы Белинского". Разумеется, на нагоняи, получаемые от Белинского, никто никогда не обижался, хотя порою он пробирал довольно сердито. Раз он жестоко набросился на Тургенева, когда узнал, что тот в "великосветских салончиках" уверяет "дам и кавалеров", будто бы не берет литературного гонорара и помещает свои произведения даром. "Да как вы решились сказать такую пошлость, вы, Тургенев!.. Да разве это постыдно - брать деньги за собственный труд? Или по вашим понятиям только тунеядец может быть порядочным человеком?" - волновался Белинский, нагоняя на лицо умного русского барича краску стыда и раскаяния. Да, великим было счастьем иметь возле себя такого чистого, детски правдивого человека, как Белинский, этого героя труда, образец искренности и благородства. И это великое счастье полностью выпало на долю Тургенева. И думается, что он нуждался в нем, что, не встреться он с Белинским, не совсем то вышло бы из него, что вышло в действительности. Среди недостатков юноши Тургенева приходится отметить один, сам по себе невинный, но такой, из которого могут произойти крупнейшие нравственные недочеты. Этот недостаток - всероссийская халатность, обломовщина, отсутствие стойкости. Честнейшим и милейшим человеком был, например, Илья Ильич, а что значило ему прямо по распущенности натворить сколько угодно бед: и крупных, и малых? Взять в долг денег и не заплатить в срок, не ответить вовремя на нужное письмо, хотя бы от этого ответа зависело очень многое, обещать что-нибудь и не исполнить обещанного, разорить себя и чужих хотя бы от излишнего добродушия- все это совсем по-русски, по-барски. И такая же черта халатности, недостаточно строгого отношения к себе была очень глубоко заложена в Тургеневе. Пригласить к себе в гости на обед, на дачу, а самому уйти и ухаживать за поповкой, забыв о гостях; обещать рассказ в "Современник" и, забрав аванс у Краевского, не представить рукописи вовремя - все это, разумеется, мелочь, пустяк, но такая мелочь, такой пустяк, от которых впоследствии сам Тургенев настойчиво предостерегал юношество. И несомненно он был прав: ведь Белинский или Добролюбов никогда не позволяли себе даже малейшего проявления распущенности, прекрасно понимая, что вещь, сама по себе невинная и даже милая и привлекательная по форме, грозит большими неудобствами в нормальной жизни. Из разговоров Тургенева с Белинским сохранились только отрывки; на некоторых из них необходимо остановиться. "Белинский, - пишет Тургенев, - не был поклонником принципа "искусство для искусства"; да оно и не могло быть иначе по всему складу его мыслей. Помню я, с какой комической яростью он однажды при мне напал на Пушкина за его два стиха в "Поэт и чернь": Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь. - И конечно, - твердил Белинский, сверкая глазами и бегая из угла в угол, - конечно дороже. Я не для себя одного, я для своего семейства, я для другого бедняка в нем пищу варю, и прежде чем любоваться красотой истукана - будь он распрефидиасовский Аполлон - мое право, моя обязанность накормить себя и своих, назло всяким негодующим баричам и виршеплетам!" "Я, - продолжает Тургенев, - часто ходил к нему после обеда отводить душу. Он занимал квартиру в нижнем этаже по Фонтанке, недалеко от Аничкова моста - невеселые, довольно сырые комнаты. Не могу не повторить: тяжелые тогда стояли времена; нынешним молодым людям не приходилось испытать ничего подобного. Пусть читатель сам посудит: утром, быть может, возвратили твою корректуру, всю исполосованную, обезображенную красными чернилами, словно окровавленную; может быть, тебе даже пришлось съездить к цензору и, представив напрасные унизительные оправдания, объяснения, выслушать его безапелляционный, часто насмешливый приговор... Бросишь вокруг себя мысленный взор: взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане... Ну, вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель, затеется разговор и легче станет; предметы разговоров были большей частью нецензурного (в тогдашнем смысле) свойства, но собственно политических прений не происходило: бесполезность их слишком явно била в глаза каждому. Общий колорит наших бесед был философски-литературный, критически-эстетический и, пожалуй, социальный, редко исторический. Иногда выходило очень интересно, даже сильно; иногда несколько поверхностно и легковесно". "Как во всех людях с пылкой душой, во всех энтузиастах, в Белинском была большая доля нетерпимости. Он не признавал, особенно сгоряча, ни одной частицы правды во мнениях противника и отворачивался от них с тем же негодованием, с которым покидал собственные мнения, когда находил их ошибочными. Но его можно было "прошибить", как я сказал ему однажды и чему он много смеялся,- истина была для него слишком дорога; он не мог окончательно упорствовать. К одной лишь московской партии, к славянофилам он всю жизнь относился враждебно... В собственных промахах Белинский признавался без всякой задней мысли: мелкого самолюбия в нем и следа не было. "Ну, врал же я чушь!" - бывало говаривал он с улыбкой - и какая эта в нем была хорошая черта!.. Ничего не было для него важнее и выше дела, за какое он стоял, мысли, которую он защищал и проводил: тут он на стену готов был лезть, и беда тому, кто ему попадался под руку! Тут и смелость являлась в нем - отвага отчаянная, назло его физике и нервам; тут он всем готов был жертвовать! При такой сильной раздражительности - такая слабая личная обидчивость... Нет! подобного ему человека я не встречал ни прежде, ни после!" Летом 1847 года Белинский попал в первый и последний раз за границу. Тургенев встретил его в Штеттине и прожил с ним несколько недель в Зальцбрунне, маленьком силезском городке, славившемся своими водами, будто бы излечивающими от чахотки. Потом друзья в последний раз увиделись в Париже, когда Белинскому оставалось жить всего несколько месяцев, когда он уже устал и охладел ко всему. Для Тургенева образ Белинского навсегда остался в сердце путеводной звездой. "И вот уже двадцать лет с лишком прошло со смерти Белинского, - читаем мы в литературных воспоминаниях, написанных в 1868 году, - и я вызвал его дорогую тень. Не знаю, насколько мне удалось передать читателям главные черты его образа, но я уже доволен тем, что он побыл со мною в моем воспоминании... "Человек он был!.." Внешняя сторона жизни Тургенева за время сороковых годов может быть рассказана в немногих словах. Четыре зимы (1843-1846) он пробыл в Петербурге, а в 1846 году опять уехал за границу. Он пробовал служить, но неудачно, и скоро вышел в отставку. Тогда же случилась его первая серьезная размолвка с матерью, причина которой нам неизвестна. Излагают, впрочем, историю этой ссоры так: однажды Тургенев приехал в Спасское. Не зная, чем ему угодить, Варвара Петровна устроила ему особенно торжественную встречу: велела всем дворовым мужчинам и женщинам выстроиться в ряд по подъездной аллее и, как только барин покажется, о чем должны были известить расставленные впереди верховые, - приветствовать его "громко и радостно". Тургенев рассердился и немедленно, повернув лошадей, вернулся в Петербург. Этого Варвара Петровна не могла простить ему вплоть до самой смерти и умерла не примиренная с сыном. Как бы то ни было, благодаря ссоре Тургенев остался лишь при своем литературном заработке и сильно нуждался, так что и обедать ему приходилось не каждый день. В Берлин он отправился главным образом потому, что там в это время находилась знаменитая некогда певица Виардо Гарсиа, которую Тургенев видел ранее в Петербурге, сразу полюбил - и уже на всю жизнь. Время, когда мы могли бы совершенно свободно разбирать отношения Тургенева с Виардо, еще не пришло. Ограничусь поэтому немногими достоверными фактами. "Я помню, - рассказывает Головачева, - раз вечером Тургенев явился к нам в каком-то экстазе. - Господа, я так счастлив сегодня, что не может быть другого на свете счастливее меня человека! - говорил он. Приход Тургенева остановил игру в преферанс, за которым сидели Белинский, Боткин и другие. Боткин стал приставать к Тургеневу, чтобы он поскорее рассказал о своем счастье, да и другие очень заинтересовались. Оказалось, что у Тургенева очень болела голова, и сама Виардо потерла ему виски одеколоном. Белинский не любил, когда прерывали его игру, бросал сердитые взгляды на оратора и его слушателей и наконец воскликнул нетерпеливо: - Хотите, господа, продолжать игру, или смешать карты? Игру стали продолжать, а Тургенев, расхаживая по комнате, продолжал еще говорить о своем счастье. Белинский поставил ремиз и с сердцем сказал Тургеневу: - Ну можно ли верить в такую трескучую любовь, как ваша?" Белинский, однако, ошибся, любовь Тургенева оказалась не трескучей, а преданной и покорной, - на всю жизнь. Виардо отлично пела и играла, но была далеко не красавица; особенно неприятно поражал ее огромный рот. Имея европейскую известность, она держала себя гордо и недоступно. Щедрость не входила в число ее добродетелей, скорее наоборот. Проведя большую часть жизни в Париже и при различных дворах, окруженная избранным обществом и безумною роскошью, она, несмотря на невысокое происхождение, усвоила себе лоск светской гранд-дамы, что было далеко не безразлично И.С. Тургеневу. Разумеется, первое время он только вздыхал и восторгался, но потом Виардо приблизила его к себе, и он всю вторую половину жизни провел под одной кровлей с ее семьей или где-нибудь рядом. В 1846 году он при первой же возможности помчался за ней в Германию. Пич (Pitsch) часто встречался с Тургеневым в Берлине в сороковых годах и подробно рассказал нам о своем знакомстве с ним. Между прочим, интересно описание наружности Тургенева: "Тогда его волосы, поседевшие с 1868 года, были еще темно-русыми, и вместо полной бороды только короткие русые усы оттеняли его верхнюю губу. Головой и ростом он напоминал нам Петра Великого в молодости, хотя он и не имел ничего общего с полудикой и необузданной натурой великого преобразователя России. Эти массивные голова и тело вмещали в себе утонченный ум, добрую и мягкую, гуманную душу. Это был человек, не сделавший никому ни малейшего вреда, кроме разве животных, убитых им на охоте, так как он всю свою жизнь был страстным и неутомимым охотником. Ни у кого, кроме Тургенева, - продолжает Пич, - мы не встречали такой утонченности чувств, такого оригинального умения все видеть и подобного искусства все виденное и пережитое представить слушателю вполне наглядно, с живостью и меткой определительностью, со всеми подробностями и со всей привлекательностью и очарованием поэтического изображения, при всей сжатости рассказа. Самые талантливые поэты и художники, члены этого кружка, как все идеалисты того времени, склонные к умозрительности, не обладали таким врожденным пониманием природы и уменьем схватывать действительность, что, впрочем, вполне объясняется абстрактностью нашего воспитания. Тем сильнее и новее было впечатление беседы Тургенева". Пич отмечает еще в Тургеневе поразившую его скромность: "Удивительнее всего, - говорит он, - что Тургенев, против обыкновения всех поэтов, ни одним словом не обмолвился тогда о том, что в его отечестве он уже был известен за выдающегося писателя. Очень часто, под впечатлением его художественного рассказа и всего его существа, я говорил ему: "Вы - истинный поэт! Вы - великий, единственный в мире рассказчик! Ваш народ и весь свет узнают вас и будут удивляться вам". Улыбаясь, он отклонял эти похвалы и уверял - о лицемер! - что в нем нет ничего поэтического. Рассказы Тургенева отличались "глубоким унынием". Его тяготило грустное положение родины, особенно торжествующее крепостничество, к которому он возвращался то и дело с ненавистью и отвращением". Любопытен, между прочим, эпизод о бабушке Тургенева, переданный им самим Пичу. Вот что рассказывал Тургенев: "Старая, вспыльчивая барыня, пораженная параличом и почти неподвижно сидевшая в кресле, рассердившись однажды на казачка, который ей услуживал, за какой-то недосмотр, в порыве гнева схватила полено и ударила мальчика по голове так сильно, что он упал без чувств. Это зрелище произвело на нее неприятное впечатление; она нагнулась и приподняла его на свое широкое кресло, положила ему большую подушку на окровавленную голову, - я теперь еще помню то неподдельное выражение, которое Тургенев употребил при этом рассказе - и, севши на него, задушила его. - Само собою разумеется, эта величественная барыня ничем за это не поплатилась". Больше о пребывании Тургенева в Берлине мы не знаем ничего. В заключение этой главы - несколько слов о его литературной деятельности в рассматриваемый период. Пич, уверяя, что в 1846 году Тургенев был уже признанным и даже "выдающимся" русским писателем, очевидно преувеличивает. Раньше 1852 года, т.е. до выхода в свет отдельным изданием "Записок охотника", Тургенев не знал не только славы, а даже известности. Виноват был, впрочем, он сам. Он писал стихи, по поводу которых сам впоследствии сказал следующие неоспоримые слова: "Я чувствую положительную, чуть не форменную антипатию к моим стихотворениям - и не только не имею ни одного экземпляра моих поэм, но дорого бы дал, чтобы их вообще не существовало на свете". Он писал драмы и комедии, но, кроме трех из них: "Месяц в деревне", "Провинциалка" и "Холостяк", - ни одна не может остановить на себе внимание читателя. Приходится просто удивляться, что из-под пера Тургенева вышла такая слабая вещь, как "Неосторожность" ("дррама из испанских ндравов", как выразился справедливо один из критиков) или "Безденежье"! Нашел себя Тургенев только в "Записках охотника", но странная судьба постигла эту поистине чудную вещь! Что "Записки охотника" носят на себе печать гения - это несомненно; однако Белинский, чувствуя предсмертную усталость, отнесся к ним холодно, и первая настоящая критика принадлежит - как это ни странно - не Белинскому, а Анненскому. Впрочем, и Анненский не сумел оценить полностью содержания "Записок". Им, например, совершенно не указана публицистическая (за которую, кстати сказать, Тургенев отсидел два месяца в кутузке, - следовательно, Бенкендорф видел, а критики не видели) сторона рассказов, именно резкий и искренний протест против крепостного права! "Записки охотника" - популярнейшее в настоящее время произведение Тургенева, нечто "вечное", как говорили в 30-х годах, - были оценены не критикой, а публикой, которая раскупала нарасхват два дорогих тома. Публика поняла, в чем тут дело, поняла, что небо послало ей новый огромный художественный талант и, мало того, талант с сердцем, искренне любящим, искренне ненавидящим. Она пошла за этим талантом, возвела его в 50-х годах в степень кумира и полубога и не обманулась. Она изменила Тургеневу лишь после появления "Отцов и детей", но эта измена была лишь временной и, как скоро увидим, более чем несправедливой. "Записки охотника" были необходимым дополнением к мрачной шутке Гоголя - "Мертвым душам", читая которые, лишь вскользь видишь, что делали крепостные Манилова, Ноздрева, Петуха, Собакевича, Плюшкина. В сравнении с "Записками охотника" "Мертвые души" - идиллия, так как, изучая последние, чувствуешь, что все же "мужички живут помаленьку". Впрочем, не мужичками и интересовался Гоголь. В истории развития наших народолюбческих и демократических идей "Записки охотника" сыграли огромную и плодотворную роль,- не меньшую, по нашему мнению, чем прославленная повесть Д. В. Григоровича "Антон Горемыка". |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |