| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
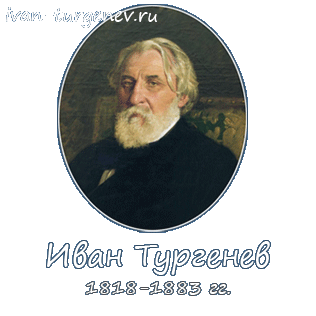
Генерал-поручик паткуль. Трагедия в пяти действиях, в стихах - Критика Тургенева Ивана Сергеевича"Генерал-поручик Паткуль" назван автором, вероятно, не без причины трагедией, а не исторической драмой. Слово трагедия, хотя и утратило свой первобытный, древний смысл, всё же переносит читателя в ту идеальную сферу искусства, где действующие лица являются представителями великих вопросов, великих событий человечества, где совершается борьба между двумя коренными началами жизни и где, следовательно, трагик имеет право, для большего торжества истины, жертвовать фактами, внешней вероятностью {"Насколько может трагик отступить от исторической истины? Во всем, что не касается до характера действующего лица,-- насколько угодно. Но характеры должны быть ему священны. Малейшее существенное, изменение, всякое внутреннее противоречие уничтожает причину, почему выбрано именно это историческое лицо; а нам не может нравиться то, чему причины мы не находим". Лессинг Гамб<ургская> драм<атургия>, ч. 1, стр. 105. (Примечание Тургенева).}. В произведении г. Кукольника одно лицо - Паткуль наполняет всю сцену; пафос (мы бы весьма желали заменить это слово другим, в угоду тем насмешливым и острым людям, которым оно не нравится, но не находим другого), его пафос - величие Петра, возникающей Руси, нового царства, нового народа... Остальные лица - Август, Карл, любовницы и министры Августа служат только рамой картине. Нам кажется, что автор употребил во зло признанное за ним право изменять события: вся его трагедия исполнена анахронизмов, на которые мы укажем ниже; во всяком случае едва ли следовало заставить Паткуля (на стр. 84) говорить о Мольере, как о живом человеке, тридцать три года после его смерти. Но прежде, чем приступим собственно к разбору произведения г. Кукольника, нам хочется поговорить о самом Паткуле как об историческом лице. Графиня Кёнигсмарк {У г. Кукольника графиня Кёнигсмарк в 1706 году добивается аббатства Кведлинбургского, которое, по истории, она получила в 1698 году. (Примечание Тургенева).} говорит у г. Кукольника, что Царя Петра великое лицо Испуганной Европе представляет Великий Паткуль...-- и хоть тогда, за три года до Полтавской битвы, Европа не могла "пугаться" Петра,-- но мысль противопоставить юную Русь старой Европе, показать нам представителя нашего великого царя среди блестящего и развратного двора Августа, эта мысль действительно могла бы служить основанием замечательного художественного произведения. Как ее выполнил г. Кукольник - увидим ниже, но теперь мы должны объявить, что в наших глазах Паткуль не заслуживает чести быть таким представителем Петра. Рожденный с сердцем горячим и благородным, с умом изворотливым и тонким, он в молодости своей смело восстал за права своей родины - и пострадал за свою смелость; осужденный на позорную казнь, если не раскаялся в своей опрометчивости, то по крайней мере всячески старался загладить ее дурные последствия, просил, писал умоляющие письма; раздраженный отказом, напрасным унижением, старался отмстить шведскому правительству сперва сочинениями, потом делами; {Ответ шведского правительства на манифест 1702 года был публично сожжен в Москве по наущению Паткуля. (Примечание Тургенева).} вел жизнь непостоянную и беспокойную, пока Флемминг его не завербовал в саксонскую службу; увлеченный величием Петра и, быть может, патриотическим желанием упрочить судьбы своего отечества, поступил в число служителей русского царя, не разрывая, впрочем, связи с саксонским двором; интриговал, запутывал и распутывал дела, беспрестанно путешествовал, вступал в сношения с правительствами австрийским, прусским, датским, а при восшествии юного Карла на престол хлопотал о помиловании. Паткуль принадлежал к числу тех странствующих второстепенных дипломатов, космополитических государственных людей, которыми тогда полна была Европа. Таков был известный Герц, таков был знаменитый Адьберони, его современники; но Паткулю до них, "как до звезды небесной", далеко. Страшная, мученическая смерть Паткуля возбудила к нему справедливое участие историков и, может быть, одна вывела из мрака, обессмертила его имя. Он предан был Петру потому, что чувствовал его превосходство и предугадывал его могущество; служил ему усердно, горячо, но действовал единственно из личных выгод. Героем же он не был, хотя рисковал своей головой не раз - c'etait le mauvais cote du metier {это дурная сторона ремесла (франц.).}, как говорят французы {Известно, что и Герца казнили (гораздо с большей несправедливостью, чем Паткуля) после смерти Карла. "Mors regis, fides in regem mors mea" ("Смерть короля - и моя смерть: я ему верен"),-- сказал про себя Герц. Он умер с замечательной твердостью, чего тоже нельзя сказать про Паткуля. (Примечание Тургенева).}. Читатели могут усомниться в справедливости нашего мнения; мы им представим доказательство неотразимое: собственные признанья Паткуля. Капеллан Гиельмского полка, при котором находился пленный Паткуль Лаврентий Гаген (Hagen), a не Гагар, как его называет г. Кукольник, оставил необыкновенно трогательное, поражающее своей, истиной, описание последнего дня бедного Паткуля, которому он служил исповедником. Чтение этого документа, писанного на другой день казни, так сильно подействовало на нас, что мы решаемся поделиться нашими впечатлениями с читателем. Этот документ чрезвычайно интересен и в психологическом отношении: читая простой рассказ почтенного пастора, мы как будто присутствуем при предсмертных муках человека страстного, много пережившею, не слабого, но и не сильного, умного, но не необыкновенного, каким и был Паткуль... Такие люди ближе и понятнее нам, в них больше принимаешь участия. Вот этот рассказ (пастор говорит о себе в третьем лице). ...Полковник за тайну сказал пастору, что Паткуля казнят на следующий день, и поручил ему объявить это пленнику и приготовить несчастного к христианской кончине. Согласно с этим приказанием, капеллан отправился к Паткулю в третьем часу дня и нашел его лежащим на постеле. Поклонившись ему, пастор попросил его не пенять на него за нежданное посещение, тем более, что он (пастор) не сомневается в том, что в бедственном его положении ему необходимы увещания в утешения божественного слова. "Я очень рад,-- отвечал Паткуль,-- и очень вам благодарен; поверьте, г-н пастор, ни одно посещение не могло мне быть более приятным. Ну,-- прибавил он,-- что нового?" Капеллан отвечал, что он должен ему нечто сказать наедине; Паткуль встал и обратился к дежурному офицеру. Капеллан тоже подошел к офицеру и шёпотом сообщил ему приказание полковника Как только тот вышел, Паткуль взял пастора за руку.. "Ах, г-н пастор,-- начал он чрезвычайно взволнованным голосом,-- что вы такое мне хотите объявить?" - "Милостивый государь,-- возразил пастор,-- я прихожу к вам с поручением Иезекии, я должен вам сказать, что Исайя сказал этому царю (Исайи, XXXVIII, I): "Устрой в дому твоем, умиравши бо ты и не будеши жив!" - Услышав эти слова, Паткуль снова лег, и слезы потекли у него из глаз. Пастор начал его утешать и сказал ему, что так как он искусен во всех науках, то, вероятно, хорошо знаком и с главнейшей из всех наук, с религией, и что поэтому не следует ему принимать с такой горестью и с таким волнением известие, которого он притом должен был ожидать. "Ах,-- сказал Паткуль,-- я знаю старинную обязанность людей - умереть когда-нибудь; но эта смерть будет мне слишком тяжка". И он заплакал горько. Желая подкрепить его, пастор сказал ему, что еще неизвестно, какой род смерти ему назначен, но что она будет тем спасительнее для его души, чем страшнее для тела. Тогда Паткуль привстал на постеле и, сложа руки, воскликнул: "Господи Иисусе, пошли мне праведную смерть". Потом, обратившись к стене, продолжал: "Ах! редукция {Эта "редукция" состояла в конфискации многих казенных имений, которые дворянство себе присвоило или получило в дар более ста лет тому назад. Огромные земли, между прочим десять графств и пятьдесят баронств, подверглись этому конфискованию. (Примечание Тургенева).} в Швеции и Ливонии была причиной всех моих бедствий". Капеллан попросил его оставить все земные помыслы, которые притом не могли не быть ему неприятными, и подумать о небе и вечности. "Увы, добрый господин пастор! - отвечал он,-- моя душа - старая язва, наполненная гноем; позвольте мне сперва выкинуть вон всё, что у меня на сердце; всё это должно выйти вон. Эта редукция, которая разорила столько людей,-- продолжал он,-- эта редукция причина всех моих несчастий. Покойный король ударил меня по плечу и сказал мне: "Паткуль, защищайте права вашей родины, как следует честному человеку". Что же мне было делать? Но злые люди всё перетолковали в дурную сторону. Да простит господь Гастёру. Он много содействовал к моему несчастию. Сначала он заманил меня, потом совсем ослепил, потом сделался моим врагом и стал меня преследовать. Скоро я увижу тебя, вместе с моими другими обвинителями, перед престолом вечного судии. Борггейм тоже много мне повредил; но он по крайней мере действовал по приказанию. Швеция! Швеция! не со смехом и плясками покинул я тебя, бог тому свидетель! Но куда мне было деться? Не мог же я спрятаться в могиле вместе с мертвыми. Я не хотел пойти в монастырь: моя религия мне этого не позволяет; у союзных держав я не был в безопасности. Мне говорят: ты пошел к нашим врагам, следовательно, ты причиною этой кровавой войны. Но какой ложный вывод! Я пришел к ним как несчастный изгнанник, не как злой советник и бунтовщик. Тогда никто не полагал меня способным к тому делу, и действительно, я к этому не был способен. Когда я прибыл в Саксонию, всё уже было сделано, и конвенция с Московией была подписана, прежде нежели я что-нибудь значил..." Пастор снова посоветовал ему не вдаваться слишком в житейские дела; но Паткуль взял его за руку и сказал: "Позвольте мне проститься с ними, с тем, чтоб уж никогда больше о них не говорить. Какой вы нации, господин пастор?" - "Я швед,-- возразил тот,-- родом из Штокгольма".-- "Тем лучше,-- отвечал Паткуль,-- я очень бы желал, чтобы шведы тоже узнали истину обо мне. Господин пастор, сердце у меня всегда было шведское, хотя этому не хотели верить; но бог тому свидетель. Можно судить о моем расположении к шведам по тому, как я услужил некоторым, главным из них. Эти услуги такого рода, что, скажу без хвастовства, кроме меня, никто бы на них не решился. Часто желали меня вознаградить деньгами, но я не соглашался; я просил хотя одного рекомендательного слова при шведском дворе, с тем, чтобы опять попасть в милость. Но увы! врата кротости были постоянно заперты для меня, бедной заблудшей овцы. Я не переставал, однако, употреблять всяческие усилия; с этой же целью поехал в Москву, когда наши посланники там были. Вы ведь слышали об этом",-- прибавил он, обращаясь к пастору. "Да,-- отвечал тот,-- я даже имел тогда честь быть капелланом при посольстве; я вас там видел".-- "А! вы там были! То-то мне и хотелось сперва сказать, что я вас где-то видел. Да, г-н пастор,-- продолжал он,-- я старался попасть в милость через посредство царя. Но когда я узнал, что посланникам короля было приказано сыскать меня и требовать моей выдачи, я принужден был спрятаться и жить инкогнито. Тогда распустили слух, что я отвратил царя от заключения мира. Но это сделал Н.; креатура Н. {Трудно догадаться, на кого метил Паткуль. Не на Меншикова ли? (Примечание Тургенева).} и другие тут участвовали, которых я знаю. Я же, с своей стороны, советовал согласиться на мир, сколько мог, советовал; и в первый же год я довел дело до того, что король шведский получил бы Курляндию, польскую Лифляндию и большую часть Самогитии, если бы хотел согласиться на мир. Полагали, что царь не захочет подписать такие условия; но, напротив, когда я ему предложил свой проект, он очень обрадовался, обнял меня и благодарил за совет. Но шведский король не согласился. Бедные пленные шведы, которых тогда было в Москве несколько сотен, могли бы тоже свидетельствовать в мою пользу. Я могу сказать, что я истратил более ста тысяч талеров, чтобы снова попасть в милость шведского короля. Ах, если бы я также старался заслужить божие милосердие!" Он снова заплакал. Пастор начал опять его утешать, уверяя, что еще есть время, но что не надобно медлить, что врата божьей благости еще открыты для него. "В этом все мои надежды,-- отвечал он.-- Ты мой бог, ты не человек: гнев твой не вечен... Но сердце мое разрывается при мысли, что я лучше служил людям, чем богу..." Он еще прибавил несколько слов и, кончая, сказал: "Potentes potenter tormenta patientur (сильные будут наказаны сильно)". "Но, господин пастор,-- продолжал он,-- я, может быть, вас задерживаю своими скучными речами. Теперь, если вам нужно что-нибудь сделать... я бы желал остаться немного наедине. Попросите, также, пожалуйста, г-на полковника, чтобы меня не прерывали... я это сочту за милость". Пастор обещал исполнить его просьбу и удалился. Когда он возвратился к пленнику, вечером в семь часов, Паткуль сказал ему с веселым и довольным видом: "Милости просим, господин пастор; я на вас гляжу, как на ангела небесного. Теперь благодаря бога у меня тяжелый камень с сердца свалился, я чувствую большую перемену в своей совести. Я рад тому, что должен умереть. Лучше умереть, чем долго томиться в тюрьме. Ах! лишь бы эта смерть была сносна! Не знаете ли вы, как я должен умереть?" Капеллан отвечал ему, что нет; но что, вероятно, все будет исполнено без шума, потому что до сих пор в полку никто об этом не знал, кроме Полковника да его (пастора). "И это милость,-- сказал Паткуль.-- Но разве вы не видели моей сентенции? Неужели ж меня казнят, не выслушавши, даже не сообщив мне приговора?" Пастор отвечал ему, что, вероятно, есть сентенция, но запечатанная, которую откроют только на месте. "Может быть,-- сказал Паткуль,-- лишь бы меня не долго мучили". Пастор подкрепил его, как только мог,-- и он сам старался утешить себя словами священного писания. Между прочим, он сказал по-гречески стих из Деяний апостольских (XIV, 22): "Многими скорбьи подобает нам внити в царство божие", и из Послания к римлянам (VIII, 18): "Непщую, бо, яко недостойны срасти нынешнего времени, к хотящей славе явитися в нас". Он спросил потом, может ли он получить бумаги и чернил. Когда же пастор сказал ему, что да, он попросил у него позволения продиктовать ему следующее: "Завещание, или Последняя моя воля, которую я хочу, чтобы исполнили после моей смерти. Во-первых, чтобы мои родственники, находящиеся в шведском войске, получили должные мне суммы, в силу существующих облигаций, и чтобы его величество, шведский король, сделал милость, помог им в получении..." Продиктовав эти строки, он сказал пастору: "Остановимся тут, это мне будет приятнее, и от времени до времени станем молиться,-- что они и сделали.-- Теперь,-- примолвил он,-- слава богу, я чувствую себя всё лучше и лучше.. Ах! лишь бы меня не долго, мучили! Как бы я охотно отдал всю кровь мою до последней капли, если б я мог выкупить ею свои грехи! Не правда ли, король - милосердый государь?" - "Да,-- отвечал ему капеллан,-- мы должны благодарить бога за то, что он нам дал короля милосердого и благочестивого".-- "Это главное,-- сказал Паткуль,-- где страх божий, там и другие добродетели. Справедливо говорит Давид, что страх божий начало премудрости. Окружен ли он честными людьми?" - продолжал он, говоря о короле. Капеллан отвечал утвердительно. "А первый министр, граф Пипер,-- что, он вельможа, боящийся бога?" На это капеллан ответил, что граф тоже неоднократно доказал свою набожность. "Слава богу,-- продолжал Паткуль,-- со мной, следовательно, поступят правосудно. Счастливо то царство, где господствует благочестие и правосудие!" Он начал расспрашивать капеллана о Швеции, университетах, ученых, богословских сочинениях доктора Мейера. Потом он заговорил о Галле и в особенности о профессоре Франке и докторе Брейтгаупте, спрашивая мнение пастора о них, а также, где он учился. "Да,-- сказал он, наконец, с глубоким вздохом,-- да, да! есть у меня там и сям друзья, которые пожалеют обо мне и заплачут, узнав о моей смерти! Что скажет вдовствующая курфирстша и фрейлина Летольда и, в особенности, моя бедная невеста? (Паткуль был сосватан с одной саксонской дамой, по имени Эйнзидлен.) О! какое горькое известие для нее! Добрый мой господин пастор,-- прибавил он, пожав ему руку,-- могу я вас обеспокоить одной просьбой?" - "Охотно,-- ответил ему пастор,-- если я только в состоянии вам чем-нибудь услужить".-- "Будьте так добры, напишите бедной госпоже Эйнзидлен, моей невесте; поклонитесь ей от меня в последний раз и скажите ей, что моя смерть, как она ни позорна, все же счастлива и спасительна для меня. Это ее немного утешит, особенно если она получит письмо от того, кто был при мне в последние мгновения моей жизни. Подумайте о моей верной любви. Моя невеста теперь свободна и ничем не связана... я умираю, преданный и благодарный ей..." Пастор обещался исполнить его желания. Паткуль достал кошелек и разделил свои деньги на три свитка. "Завтра,-- сказал он,-- если угодно богу, я не хочу ничем заниматься житейским". Он предложил пастору один из этих свитков, в котором было сто червонцев. Когда же тот начал отказываться, говоря, что он этого не заслуживает,-- "Ах! г-н пастор,-- воскликнул Паткуль,-- я часто давал по тысяче червонцев за временную услугу; вы же мне теперь оказываете неоцененное расположение и приязнь, и я бы желал быть в состоянии достойное возблагодарить вас! Впрочем, господин пастор, я хочу подарить вам самое драгоценное мое сокровище - Новый Завет греческий, с комментарием Ария Монтана. Эта книга была неразлучна со мной во время моего изгнания. Она находится теперь у майора Гротаузена; вы можете послать за ней". Пастор поблагодарил его и обещался хранить ее всю жизнь из любви к нему. Паткуль попросил пастора поклониться майору от его имени и благодарить его за все сказанные снисхождения. Потом он взял другую книгу и сказал. "Это я написал сам. Возьмите и эту книгу, г-н пастор, на память обо мне. Она докажет вам мою веру. Я бы очень желал, чтобы эта книга как-нибудь попала на глаза королю". Пастор сказал Паткулю, что он отдаст ее полковнику, с тем чтобы тот представил ее королю. "Ах, как это было бы хорошо! - воскликнул Паткуль.-- Милая книга, желаю, чтобы ты была счастливее меня. Я говорю тебе, что Овидий говорил своим "Tristes", посылая их к Августу, из места своего изгнания: "Ступай, моя книга, и выхлопочи мне то, чего я сам не мог выхлопотать". Потом он попросил пастора прочесть ему молитвы предсмертные, в особенности ту, которая начинается так: "Вечному богу вручаю я мою душу..." Он сам повторил ее с большим вниманием и тут же заговорил о суете мирской. "Бог мне свидетель,-- сказал он,-- что среди всех благ земных у меня сердце всегда стеснялось и что теперь, когда я знаю, что должен умереть завтра,-- я спокойнее и веселее, чем бывало, на больших пирах. Munde immunde vale, то есть прощай, нечистый мир! Г-н пастор, уверяю вас, что часто, особенно в последние годы, я старался освободиться от мира, но не мог. Я слишком был кругом опутан. О Иисусе! буди благословен навсегда ты, разрывающий сети диавола! Сети разорваны, моя душа свободна; это дело рук могущественного Карла. Благодарение богу!.. Справедливо сказал святой Павел (к Рим. посл. VIII, 27): "Вемы же, яко любящим бога вся поспешествуют в благое". "Господин пастор,-- продолжал он,-- я вас задерживаю; уже становится поздно, вы устали". Пастор отвечал, что нет, помолился еще с ним и кончил вечернею молитвой. "Посоветуйте мне, г-н пастор,-- спросил его Паткуль,-- должен ли я отдохнуть теперь немного? Я очень уже давно не спал... я очень слаб. Сегодня я не ел ничего и выпил только несколько глотков воды". Пастор ему присоветовал отдохнуть. "Итак,-- продолжал он,-- мое тело может теперь успокоиться на время... Завтра мне нужны все мои силы. Я должен и хочу завтра подкрепить свою душу святым причастием". Тогда он заметил время на своих часах, лег на кровать, и пастор удалился. На другой день, 30-го числа {30/20 сентября 1707 года. (Примечание Тургенева).}, около четырех часов утра, капеллан опять явился к нему. Паткуль тотчас услышал его приход, встал и поблагодарил бога за хорошо проведенную ночь. "Уже давно,-- сказал он,-- я так хорошо не спал". Они оба начали молиться, и автор этого рассказа сознается, что должен искренно похвалить его набожность. Около шести часов Паткуль сказал пастору: "Во имя Иисуса, приступим к священному действию, пока шум дневный не увеличится и не помешает нам". Он стал на колени и исповедался с большим уничижением. Начало его исповеди было в особенности замечательно тем, что он привел стих из Быт. XLIV, 16: "Что отвещаем господину, или что возглаголем, или чим оправдимся? Бог же обрете неправду рабов своих". Потом он причастился - и, причастившись, попросил пастора читать ему благодарственные молитвы и сам повторял их за ним. Он особенно одушевился при стихе: "Подкрепи меня духом твоей радости", который, по его словам, был всегда его любимым изречением. Солнце начало всходить! Он взглянул в окно и сказал: ""Salve festa dies!" - ты день моего брака. Я надеялся было праздновать другую свадьбу об эту пору; но этот брак счастливее. Сегодня душа моя будет введена в чертог уготованный, к предвечному жениху своему, Иисусу Христу. Как я рад! С каким нетерпением ожидал я этого дня!" - Тогда он во второй раз спросил у пастора, какою смертию ему суждено умереть. Когда же тот опять объявил ему, что он об этом ничего не знает, он стал просить его не покидать его, как бы казнь ни была ужасна. "Кричите мне святое имя Иисуса,-- повторил он,-- это облегчит мои муки.-- Взглянув в окно,-- ах, г-н пастор,-- воскликнул он,-- вот уже закладывают телегу... Слава богу, они торопятся; мне надоело жить.-- Потом, взглянув на бумагу, где капеллан начал было писать его завещание,-- это всё исполнят,-- сказал он. Пастор спросил его, не хочет ли он подписаться,-- нет,-- произнес он со вздохом,-- я не могу написать это ненавистное имя. Мои родственники и без того найдут, что я им оставил. Всё в порядке, господин пастор; поклонитесь им, когда вы их увидите". Он снова начал молиться, пока дежурный лейтенант не пришел за ним. Тогда он сказал, обращаясь к пастору: "Вот и подтверждение вашего печального поручения; ну, пойдемте,-- прибавил он,-- пора,-- и надел плащ.-- Вы сядете со мной,-- сказал он пастору,-- не покидайте меня". Он сел в телегу и заставил капеллана поместиться сзади. Он обнимал и целовал его, просил не забыть поклониться невесте, благодарил его... Таким образом они прибыли на место казни, окруженное тремя стами пеших солдат. Когда Паткуль увидал уже готовые копья и колеса, он страшно испугался, бросился на грудь капеллана и простонал: "Ах, г-н пастор, молите бога, чтобы я не впал в отчаяние". Пастор его начал утешать, напоминая ему распятого Христа... Тут его взяли, и пока с него снимали цепи, он читал молитву: "О, агнец божий, ты, который, хотя невинный, был принесен в жертву на кресте..." Когда же его привели к самому месту истязания, капитан Гиельмского полка произнес громким голосом следующую речь: "Да будет ведомо всем и каждому, что по нарочитому приказанию его величества, нашего всемилосердого государя и короля, сей человек, который изменил своему отечеству, в возмездие за его преступления и в пример другим, долженствует быть колесован и четвертован. Пусть же каждый боится измены и верно служит своему королю". При словах "изменил своему отечеству" Паткуль пожал плечами и взглянул на небо. Потом он спросил: "Где мне стать?" И когда палач указал ему место, он сел на землю и, пока его раздевали, закричал капеллану: "Молите бога, чтобы он подкрепил меня в эту минуту..." Пастор помолился и, обратившись к народу: "Милые мои дети,-- сказал он им,-- скажемте "Отче наш" за этого бедного человека".-- "Да, ах, да,-- сказал Паткуль,-- молитесь..." В эту минуту палач ударил его в первый раз. Паткуль закричал изо всех сил: "Сжалься надо мной, Иисусе!" Однако же он получил от четырнадцати до пятнадцати ударов. Он имел дело с палачом неопытным, и казнь его была продолжительна и жестока. Во всё время казни, он кричал раздирающим голосом, беспрестанно призывая Христа Спасителя. "Ко мне, ко мне, Иисусе,-- кричал он,-- вручаю дух мой в руки твои". После того, как его два раза ударили по желудку, он уже более не кричал, он сказал прерывающимся голосом: "Отрубите голову"...-- и так как палач медлил, он сам положил ее на плаху. Только с четвертого удара, ему ее отрубили... Потом его четвертовали и воткнули члены его в разных местах на копья. Мы не прибавим никаких замечаний к этому рассказу: он сам говорит за себя. Если нам возразят, что капеллан с намереньем неточно передал слова Паткуля, то мы сошлемся, во-первых, на чувство каждого читателя, а во-вторых, заметим, что шведу, желавшему оправдать своего короля, следовало бы вложить совсем другие речи в уста пленнику. Нам возразят, что Паткуль говорил под влиянием страха, близкой казни. В этом мы вполне согласимся, Да мы только и желали доказать, что Паткуль не был героем. Что министры Августа и сам Август поступили с ним противозаконно, бесчеловечно, бессовестно, согласно с тем, что тогда называлось тонкой политикой, дипломатической наукой; что Паткуль своей смелостью, рвеньем и деятельностью оскорбил и запугал их - в этом нет никакого сомнения; но он пострадал не за одну свою смелость. Читатели позволят нам сообщить несколько исторических подробностей, касающихся до заключения Паткуля. Известно, что, будучи кассиром русских войск, находившихся в Польше, генерал-поручиком русской службы и посланником, Паткуль состоял также в распоряжении короля Августа, который, между прочим, в октябре месяце 1704 года (за год с небольшим до его заключения) послал его вместе с генералом Брантом и двенадцатитысячным войском взять Познань. Осада ему не удалась; он отступил. Враги его воспользовались этой неудачей и, вероятно, уже тогда повредили ему в уме короля. Притом Август, по весьма понятным причинам, не верил в добросовестность и готов был подозревать всех и каждого: человек судит о других по самом себе. В декабре 1705 года Август имел свидание в Гродне с Петром, и именно из Гродно он послал в Дрезден приказ посадить Паткуля в Зонненштейн (его после перевели в Кёнигштейн) - в самое то время, когда, казалось, он окончательно скреплял союз свой с русским царем. Этот махиавеллический образ действия был, впрочем, совершенно в духе августовской политики. Тогда же поднялись различные толки о причинах этого приказания. Саксонский двор обвинял Паткуля в заключении тайного трактата с императором германским (что даже довольно вероятно), в желании разъединить союзников (Петра и Августа), в оскорбительных отзывах о самом Августе. Но под этими явными обвинениями таились другие, невысказанные. Трудно проникнуть в эту мглу, распутать сети всех этих дипломатических интриг, личных неприязней, измен и подкупов, но, по всей вероятности, Паткуль, который видел вблизи двуличность и ненадежность Августа и хотел, может быть, загладить свои прежние вины, попытался устроить то, что десять дет спустя удалось Герцу, то есть сблизить Петра с Карлом; а Август, с своей стороны, предчувствуя неизбежный конец войны с шведским королем и подстрекаемый своими наушниками, врагами Паткуля, желал себя обеспечить, тем более, что Паткуль сам едва ли был очень разборчив на средства. Посадив в тюрьму посланника русского царя, он подвергался (и действительно подвергся) гневу Петра; но, вероятно, успел - если не очернить совершенно Паткуля в глазах его монарха, то по крайней мере оправдать его заключенье на время, потому что хотя сначала Меншиков и выступил из Польши обратно в Россию, и сам Петр не хотел дать никакого ответа епископу Куявскому, посланному к нему от Августа, пока не освободят Паткуля, но в сентябре 1706 года (то есть девять месяцев после заключения Паткуля в тюрьму) мы снова видим Меншикова и Шереметева в распоряжении Августа перед Калишем. Петр никак не мог ожидать постыдной выдачи Паткуля Карлу; узнав о ней, закипел негодованием, употребил все средства к избавлению своего посланника, хлопотал в течение целого года (Паткуль был выдан в сентябре 1706, а казнен в конце сентября 1707); но при известном упрямстве и гордости Карла никакие представления помочь не могли. Ничто не бросает такого яркого света на характер Августа, как его поведение под Калишем. Вероломный Альт-Ранштадтский трактат был уже подписан, а он - правда, нехотя - напал на Мардефельда (которого г. Кукольник упорно называет Мардофельдом), дал ему знать под рукой о грозящей ему опасности - и не посмел объявить Меншикову о заключенном уже мире. Август не был злым человеком, но совесть, кажется, в нем молчала постоянно. Двуличность его является, между прочим, в приказании, отданном также под рукою - кёнигштейнскому коменданту,-- выпустить Паткуля; гнев Петра страшил Августа... Когда же Паткуля, по недоразумению, по упрямству или по корыстолюбию, выдали шведам, коменданту тайком отрубили голову.. Из всего сказанного нами мы заключаем, что Паткуль был человек умный, ловкий, может быть, слишком ловкий, искусный дипломат и хороший слуга Петру. Страшной смертью своей искупил он все прежние прегрешения и справедливо заслуживает наше сожаление и участие... Паткуль не мог не презирать Августа, его двор, его главных служителей; он чувствовал, что Петру нельзя было положиться на такого легкомысленного и вероломного человека, и старался на всякий случай упрочить за собой новых союзников; в надежде на свою посланническую неприкосновенность пустился в слишком смелые и слишком многочисленные интриги - и сам запутался в своих сетях. Мы, в приличном месте, постараемся оценить также права Карла, судьи Паткуля, а теперь обратимся к самому произведению г. Кукольника.. Уже давно (и весьма благоразумно) принято за правило, что критик не имеет права спрашивать у автора: зачем он выбрал такой предмет, придерживается такого-то мнения? - но должен сперва сам понять, какую себе автор поставил задачу, а потом рассмотреть, как он ее выполнил. Если г. Кукольнику угодно было сделать из Паткуля вдохновенного пророка величия России, представителя петровской мысли и силы, мы можем протестовать во имя исторической истины, но мы сперва должны доказать, что с художественной точки зрения автор не выполнил собственного намерения, чтобы иметь право произнести приговор над его произведением. Мы приступаем к подробному разбору сочинения г. Кукольника. Акт первый. Действие происходит около Калиша. Входят граф Шулембург {Напрасно Август у г. Кукольника называет Шулембурга стариком: Шулембургу было в 1706 году 45 лет; он родился в 1661 году. (Примечание Тургенева).}, саксонский генерал, известный своим незаслуженным поражением при Фрауштадте (в 1706 году) и знаменитой защитой Корфу против турок в 1716 году в качестве фельдмаршала венециянских войск,-- и Смигельский, польский генерала Смигельский, перехватив копию мирного трактата, посланного к Августу, грозится отдать "эти бумажки" Паткулю (который, заметим мимоходом, уже около года сидит в крепости); Щулембург хочет его арестовать, но Смигельский уходит с угрозами. Входит Август с свитой. Король в нетерпении ждет трактата, беспрестанно примешивает французские слова {Заметим кстати, что почти все наши стихотворцы, помещая французские слова в свои стихи, не считают е muet за гласную. Так и г. Кукольник в comme c'est beau! вместо четырех (com-me c'est beau) - видит три слога (ком се бо) - в Bonjour, comtesse, четыре (бон-жур кон-тесс) вместо пяти (bonjour, com-tes-se). Правда, эти последние слова произносит княгиня Тэшен рассеянно, до того рассеянно, что говорит con-tesse. (Примечание Тургенева).} ради "couleur locale" {местной окраски (франц.).}, великий гетман коронный, Синявский, упрекает его в медлительности, с примесью латинских слов. Мы находим, что автор мог бы искуснее вывести польских магнатов, окружавших тогда Августа (тем более, что они уже не являются на сцену),-- но дело не в том. Все стараются уговорить Августа вступить в битву; Август колеблется. Является Паткуль, убеждает короля, дает ему денег в билетах. Надобно "разменять"; приходит жид Леммель; Август покупает у него на все деньги разные подарки дамам. Смигельский приходит с известием о поражении шведов. Август отправляется спасать их остатки. Явление второе. Роза, невеста Паткуля, гуляет с своей служанкой. Шведы нападают на них. Август поспевает на помощь, избавляет Розу, поражается ее красотой, волочится за ней и предлагает ей ехать в Дрезден. Роза узнает, кто он, "теряется" и смотрит уже на себя, как на жертву. Август ей говорит, между прочим: Облитая вечернею зарей, Вы будете... Роза отвечает: "я буду спать". Они уезжают. Неужели, думали мы по окончании этой сцены, любовник второй руки, этот мешковатый добрый малый - Август, тот пышный, великолепный, изящный Август, удачнейший подражатель Людовика XIV-го, тот венчанный вельможа, о котором нам говорит история? Неужели Август когда-либо произносил такие речи: Инкогнито спасительный покров, Смотри же, Фюрстенберг, не выдавать! En homme prive1 мы сделаем conquete....2 С такими graces3 ходили ваши руки... Au doux plaisir de revoir, ma Rose!4 1 Как частное лицо (франц.). 2 победу (франц.). 3 изяществом (франц.). 4 До приятной встречи, моя Роза! (франц.). Автор переносит нас в калишский замок и знакомит с любовницами Августа: графиней Эстерлэ, княгиней Тэшен, графиней Кёнигсмарк - хотя мы, признаемся, не слишком рады этому знакомству, помня стихи: Не дай нам бог сойтись на бале С семинаристом... Графиня Эстерлэ "забавляется пока над полькой" (княгиней Тэшен). "Отделала порядком, будет помнить!" - говорит она другой даме в присутствии княгини; потом уходит. Княгиня Тэшен сообщает г-же Кёнигсмарк, что она разлюбила Августа и влюбилась в Паткуля. Вдруг вбегает графиня Эстерлэ, объявляет, что у ней от сырого воздуха лицо и руки посинели и что приехал Август. Август возвращается с победы, раздает свои подарки. Является Паткуль - и что тут следует?.. что тут следует, читатели? известно, что: обычное распекание a la Ruy Bias, дешевый, но несомненный coup de theatre {театральный эффект (франц.).}, необходимое заключение первого акта. Август, как опытный, со всеми пружинами драматических представлений знакомый актер, выслушивает до конца красноречие Паткуля. Но Паткуля удовлетворить не легко. "Я,-- говорит,-- понимаю ваше положенье; вам стыдно у этих дам подарки отнимать; не беспокойтесь: я сам". Княгиня Тэшен и графиня Кёнигсмарк добровольно покоряются, у графини Эстерлэ, отличающейся странным упорством говорить безграмотно по-французски, Паткуль вырывает футляр с брильянтами - и первому акту конец. Второй акт. Мы в кабинете короля Августа. Флемминг просит графиню Кёнигсмарк вести интригу с Розой Эйнзидлен в пользу его (Флемминга). Графиня соглашается. Какой искусный намек на придворную "галантерейность"! Входит Август. Флемминг убеждает его велеть "скорее спрятать" Паткуля и при этом случае дважды называет самого себя "лисицей". Вообще наивность - одно из главных качеств трагедии г. Кукольника. Все действующие лица друг другу тотчас верят на слово, все вслух высказывают свое мнение. В силу этой наивности графиня Кёнигсмарк тотчас выдает Августу тайну любви княгини Тэшен, и Август ей тотчас верит и ревнует. Поплатятся и Паткуль и княгиня! (Восклицает Август) Сегодня же на бале дам отставку... (Княгине.). А Паткуля... Входит Имгоф и Пфингстен (которого г. Кукольник, неизвестно по каким причинам, перекрестил в Финкштейна) и приносят трактат Альт-Ранштадтский. Август на все соглашается; но в сепаратном пункте требуют выдачи Паткуля.... Заметим кстати, не в сепаратном, но в 11-м пункте трактата; всех пунктов было 22 и 1 сепаратный, в котором, напротив, сказано, что если даже все ручательства со стороны короля Августа не будут доставлены, трактат все-таки остается в полной силе. Август не соглашается. Флемминг прячет трактат за пазуху, боится, что "бабы" {В числе этих баб находится знаменитая Кёнигсмарк, названная Вольтером самой замечательной женщиной двух столетий!! И это говорит придворный Августа!!! (Примечание Тургенева).} разболтают. Начинается бал. Кн. Тэшен машинально протягивает руку и говорит: "Чуть-чуть церемонияла не забыла". Но Август восклицает: "Pardon, madame!" - и уходит с другой дамой; княгиня Тэшен остается одна, говорит: "Отдайте мне невинность! честь отдайте! стыд мужа!" Является Паткуль. Ах,-- говорит она, вашу руку, благородный Паткуль! Теперь нужна мне твердая рука, Чтобы сойти со скользкой высоты, Куда меня насилие втащило.. и т. д.-- постоянно придерживаясь слога воспитанников старинных духовных заведений. Они оба идут на бал. В "большой проходной комнате" Август рассуждает с графиней Кёнигсмарк о своем затруднительном положении. В самом деле, потерять всё - из-за Паткуля - неприятно. Но вот и он сам является с княгиней Тэшен, которая обещает обождать его на террасе. Паткуль опять пристает к королю... не все драгоценности выданы: нет головного убора, который Август подарил Розе. Король негодует. Но Паткуль еще не того требует. Где трактат Альт-Ранштадтский? И, не говоря худого слова, запускает руку в карман Флемминга,- достает трактат, "и уж тут не шутка!" садится и читает. Флемминг "тихо" советует Августу посадить Паткуля в тюрьму. Но Паткуль вскакивает "вне себя". "Нет,-- говорит,-- и хочется и колется... Вы, государь, со мной протанцевали pas de deux". Но вдруг является Роза в головном уборе. Паткуль кричит: "Брависсимо", хлопает в ладоши и дико хохочет. "Рогов носить не буду" (продолжает он): У каждой двери будут два арапа, А у постели пес медиоланский! Сон, что мне сон? я в нашей спальне, Роза, Поставлю письменный мой стол, всю ночь Нельзя писать и нечего, так перья Чинить я стану; на постеле брачной Разброшу книги, письма и ландкарты... Вы спите, Роза, спите, почивайте!... Форнарина Рафаэля... Эту грудь разбей надвое... Ах, извините, читатель: это из "Доменикина"... Роза отвечает: "Жан, ради бога, Жан!" Жан ее спрашивает: "Невинна ты?" Роза: "Бог защитил меня". Жан: "Молчи!" Потом Жан представляет ее Августу, как свою невесту, а король, исполненный ревности, отдает Флеммингу ключ от Кёнигштейнской башни. Акт третий. Мы в доме Паткуля - в Дрездене. В первой сцене он прощается с русским полковником, которому сообщает, между прочим, что у него две руки и два уха. Потом является Роза, отец ее и мать (без речей, как оказано в списке действующих лиц). Отец второпях благословляет дочь свою, мать без речей тоже ее благословляет, и все, кроме Паткуля, уходят в церковь. Паткуль остается один... Входят - Флемминг, Фюрстенберг и tutti quanti {все прочие (итал.).}. Они пришли арестовать Паткуля. Паткуль передает Флеммингу записку Карла, купленную им, как говорит он, "за незначительную сумму". Флемминг видит из записки, что и ему Имгоф и Финкштейн готовят гибель (о чем, разумеется, история не говорит ни слова; напротив того, Флемминг их погубил, воспользовавшись ими), и, верный системе наивности, проведенной по всей драме, приходит в бешенство и предлагает Паткулю уехать с ним в Данциг. Но Паткуль не соглашается ни на какие предложения, зовет своих людей. Они являются из потаенной двери, за которой видны три трупа шпионов. "Видите ли,-- говорит он,-- я свободен! Моя квартира с множеством секретов... .......хочу - пойду в темницу, Хочу - к Петру поеду на почтовых!.. Перед моей забрызганной каретой Вы факелы покорно понесете..." И, вероятно из дилетантизма, отправляется в тюрьму. "Боже мой! - опять подумали мы, окончив эту сцену,-- неужели ж этот маркиз Фанфарон, этот новый капитан Пистоль, этот многошумный господин, который говорит постоянно "In King Gambyses' vein" {"Король Камбиз" - одна из английских трагедий до Шекспира. Там один из героев говорит, между прочим, что: "Я затоплю все планеты волнами моей крови..." (Примечание Тургенева).},-- Паткуль, даже тот Паткуль, каким его вообразил г. Кукольник?" А вот вам и замашки a la Шекспир: Мы по старшинству На Карла будем брызгать нашей кровью; Мир испытает с пятнами горячку: Но будет ли кровопусканье в пользу? - Европа дряхлая не ослабеет, Проспится и опять на старом месте Откроет старую свою цирюльню... На место, Имгоф! (Кричит Паткуль.) По плутовству в комиссии вы первый, По старшинству шестой... Сидите смирно... Есть у меня пилюли и для вас! . . . . . . . . . . . . . . . . . . Не вам ли, куклам, слабым и щедушным, Арестовать меня... Знай наших! В следующей сцене Август подписывает трактат, получает от русского царя курьера - и отправляет к нему посла. Входит Роза. Она просит о Паткуле - и через несколько мгновений принуждена сказать: "Я вас не понимаю, государь".-- "Вот то-то же",-- отвечает Август. И я не понимал, Чего хотелось Шарлю от меня... А как прижал - невольно догадался! Роза остается залогом свободы Паткуля. Подобные сцены писались тысячу раз и всегда одинаково... Кажется, не для чего на них останавливаться. Мы переносимся в темницу Паткуля. Он собирается писать свои записки, потом говорит о своих заслугах. И здесь вычурные или неточные выражения на каждом шагу неприятно поражают читателя. Приходит комендант и предлагает Паткулю купить себе свободу - Паткуль отвечает ему речью, испещренною словами: "Крепко не хотелось", "выжить", "бабы...", отказывается, дает ему деньги и остается один. Паткуль вспоминает о Петре, который, видно, забыл его. Вдруг входит Роза. Опять обыкновенная в таких случаях сцена. (См. хоть "Marion de Lorme" В. Гюго.) Но Гюго не заставляет Дидие схватить Марион за шею - и вытащить у ней из-за пазухи (как у Флемминга) письмо. В этом письме (украденном Розой у Августа) Петр пишет: Пока свободы Паткуль не получит, Петр с Августом иметь не хочет дела... Паткуль кричит: "Ура! я не забыт!" - Это восклицание могло быть и верным и потрясающим, если б г. Кукольник тотчас же не заставлял Паткуля прибавить: И цепи - мой венец, и стыд - порфира, Позор в лучи величья перелился... и т. п.,-- так что поневоле согласишься с замечанием одного остроумного русского критика, что слабая сторона русской литературы - вкус - и (прибавим мы) чувство меры. Пока Паткуль кричит и декламирует, входят шведы и берут его. Роза падает без чувств. Паткуль прощается с ней; но читатель не тронут: вольно ж было Паткулю декламировать. Третий акт кончается. Акт четвертый. Мы в Альтранштадте, на квартире Пипера. Послы всех держав у него в гостях. (Заметим, между прочим, что герцог Марлборуг был прислан к Карлу в августе месяце 1707 г., а не в сентябре 1706, когда был подписан трактат. Но это еще небольшая историческая ошибка; у г. Кукольника Паткуль ходит на свободе в Калише в то время, когда он, по истории, уже с год сидит в Кёнигштейне. Но к чему было такое великое лицо, как Марлборуг, если вся его роль ограничивается следующими словами: "Уехал!" потом через несколько страниц: "Себя, несчастный Паткуль, пощадите" - и только). Является Карл и... Мы никак не можем согласиться с воззрением г. Кукольника на Карла. Шведский Александр у него представлен каким-то сумасшедшим и кровожадным грубияном, который то и дело толкует о колесованье - всех и каждого... "Эх, Пипер,-- начинает он,-- вечно гости у тебя!.." Дурь из костей я выбью колесом... Насмешливой улыбки Я не прощаю... этих генералов (австрийских) Прислать ко - мне... А! Безанваль, Сидишь, как жид... У этой мерзкой девки Кёнигсмарк? Вот я вас, погодите! Сначала колесую президента, А там и членов тайного союза!.. (Саксонских.) Карла просят о Паткуле... А он "кричит, топнув ногой": Все (между прочими и Марлборуг) по домам! Не то я вам квартиры другие отведу... Карл XII {Ссылаемся на Норберга, де Лимие, Адлерфельда, Вольтера - на всех историков. (Примечание Тургенева).} был самолюбив, горд и высокомерен, но сосредоточен и холоден. Когда он гневался, он только хмурил брови и бледнел. Впрочем, он был набожен, прост, обходителен, строго соблюдал данное слово, любил правду и терпеть не мог лести, говорил мало, вел жизнь самую воздержную и правильную, отличался бескорыстием и щедростью. Трудно решить, что в нем более поражало: храбрость или хладнокровие. Он весь и всегда был сжат и спокоен (хотя смеялся часто и охотно); страшное упрямство выражалось в его молчаливой решительности. И этот-то человек, который в веселый час говорил своим приближенном: "Maledicamus de rege" (давай клеветать на короля), которого поход в Россию даже не так безрассуден, как уверяют многие со слов Вольтера,-- этот человек у г. Кукольника является каким-то полупьяным палачом, разъяренным буйволом, сумасбродным мужиком... Хотя бы вспомнил автор благоразумный совет Аристотеля - не выводить в трагедии человека совершенно злого или совершенно добродетельного! Отвращение - не трагическое впечатление. А Карл XII г. Кукольника возбуждает именно это чувство. Область сжечь (говорит Карл приехавшему Августу) Не так приятно, как посла Петрова Разбить в куски, как стклянку, колесом... Потом, опять-таки ради couleur locale, заставляет его говорить с Августом о сапогах своих - между тем как по истории известно, что он принял его великолепно и радушно и сам съездил к нему в Лейпциг, а потом в Дрезден. Мы также не думаем, чтобы умный и тонкий кн. Д. М. Голицын выражался так несносно неуклюже, как его заставил говорить г. Кукольник: А ты куда, Навуходоносор!.. Цыплята льстят, а ты и петушишься: Да мы тебе не курицы... Странное дело! Все лица трагедии г. Кукольника очень похожи друг на друга: все тяжеловаты, мешковаты и грубоваты. Почему г. автор решился придать им всем одинаковый колорит, мы, может быть, и могли бы растолковать, но мы лучше поговорим о смерти Паткуля. Вся наша душа возмущается при мысли о мученической его казни, но не один Карл тогда колесовал своих бунтовщиков. С точки зрения права Карла обвинить решительно нельзя. Паткуль был приговорен к смертной казни его отцом; не явился, когда изданы были авокатории при вступлении нового короля иа престол шведский; будучи подданным Карла, явно восстал против него, вел с ним войну... след<овательно>, изменил своему государю. С своей стороны, Паткуль был прав: он желал, как мы сказали выше, упрочить судьбы Лифляндии; но мало ли споров, в которых обе стороны правы? Если бы Карл велел тотчас казнить Паткуля, история не имела бы права заклеймить его неизгладимым пятном. Гораздо большего сожаления по-настоящему достоин лифляндец Пайкуль, которого около того же времени присудили к смертной казни. Пайкуль (генерал короля Августа) доказал, что он уже на пятнадцатом году вместе с родителями своими оставил Лифляндию, никогда не был на шведской службе, одиннадцать лет до войны продал свое имение в Лифляндии - и все-таки был казнен (в Швеции, в 1707 году). Но именно это обоюдное право (Карла и Паткуля) и могло бы придать трагедии истинное ее значение. Вместо того г. Кукольник заключает четвертый акт следующей сценой: Паткуль стоит среди лагеря, прикованный к столбу. Приходит Карл и ругается над ним. Паткуль просит Карла велеть его казнить, но не мучить. Карл отвечает: "Спасибо за совет - помилования тебе не будет". Паткуль вдохновляется и рифмованными стихами предсказывает ему гибель... Карл сперва "с бешенством" кричит: "Довольно! завяжите рот ему!", потом топает ногами - вопиет: "Граф, ружья зарядить! где палачи?" - потом стреляет из пушки, бросается к барабану, бьет тревогу... Чувство тяжелое и неприятное овладевает читателем... Точно целый оркестр заиграл на разлад... Страшно громко и страшно фальшиво. В пятом акте сперва мы видим Августа с Флеммингом, потом является весь его двор (между прочими и князь Голицын). Август торжественно лишает своей милости Имгофа и Финкштейна и посылает их в крепость. (По истории Имгоф, более виновный, заплатил 40 000 тал. и сидел до 1714 года, Пфингстен - до своей смерти, до 1733 года). Но кн. Голицын неудовлетворен и требует бумаг посольских... Вдруг является Роза. Мы выписываем всю следующую сцену. Роза (протянув руку к Августу) Пожалуйте на церковь, государь! Там целый холм его обрызган кровью; Крик Паткуля на площади, как ветер, Встает и ходит, просится в дома, Детей пугает. Надо успокоить, Собрать в одно разрозненные члены. В гроб уложить, похоронить с почетом И церковь над могилою воздвигнуть! Над гробом надпись: Salve festa dies! {*} {* Здравствуй, радостный день! (лат.).} Он этим словом встретил солнце смерти... Пожалуйте на церковь, государь!.. Август (тихо) Не смею оглянуться, подозвать Кого-нибудь.. Роза Столбы, колеса, плахи, Разнообразные орудья пытки... Я помню их, я вижу их, смотрите: На площади они стоят, как звери; Шипят, железными когтьми поводят... Народ любуется - и я, любуюсь... Смеются, я смеюсь, и вы смеетесь... Не правда ли, забавно и смешно?.. Где Паткуль? Вот идет в плаще, без шляпы, Смотрите: молятся, и я молюсь,-- И вы молитесь! Salve festa dies!.. Бух! В грудь удар! И небо потемнело... Зазеленел и заструился воздух, Ночная птица голосом ужасным Святое имя бога прокричала! Два, три, четыре, пять, шесть, семь ударов! (Плача.) Я вся избита, посмотрите, пятна И в голове и в сердце; я оглохла; Ужасно больно! И сама не знаю, Как я перенесла... Ужасно больно! (Ровно, громко, но отрывисто.) Пятнадцать! Вся природа задрожала, Все чувства, словно дети, разбежались; Мешок с костьми остался и кричит Вот этак, страшно: "Голову отрежь!" Княгиня Тэшен Небесный отче! Голицын Господи, помилуй... Роза А тут и расходились звери... Махнуло колесо, и высоко Огромная рука затрепетала! Смотрите... вот другую оторвало... Нога, нога... еще нога!.. Темно! (Идет и чего-то ищет.) Свети, Жером, свети! Поправь фонарь! Найдешь траву, обрызганную кровью, Сам не срывай, скажи, сорву и спрячу... (Остановясь.) Как! палец, только палец и о кольцом, С моим кольцом! А труп! Труп птицы разнесли! Ищи, Жером! ищи!.. Всё совершилось! (Упав на колени.) Пожалуйте на церковь, государь! Эта сцена может служить примером того, что называется ложной натуральностью, гениальничаньем, напряженным усилием самоуверенного таланта, далеко, впрочем, не оправдывающего подобную самоуверенность. Является Фюрстенберг с известием о прибытии Петра... Голицын говорит Августу: "К ответу, государь, зову к ответу..." Роза бежит к царю навстречу и падает на пороге главных дверей... Великий (говорит она) И справедливый судия, суди нас! Занавес падает. Мы не совсем довольны этим концом, во-первых, потому, что ожидания, им возбужденные, не оправданы историей, а во-вторых, и потому, что роль такого deus ex machina {Буквально - бога из машины (лат.).} едва ли прилична великому преобразователю России. Но не одной развязкой грешит эта трагедия. И в ней, как и во многих других произведениях русской сцены, характеристика, уменье вести диалог, представить зрителям игру страстей и выгод - пожертвованы декламации, иногда довольно удачной, иногда напыщенной, всегда неестественной и однообразной. Низар некогда назвал новейшую французскую литературу - litterature facile; {"литературой легкой" (франц.).} нам то же хочется сказать и о драматических произведениях, подобных "Паткулю". Ужели же так трудно вместо живых людей, "ondoyants et divers", {колеблющихся и разных (франц.).} как говорит Montaigne, безвозвратно преданных одной великой цели или покоренных собственными страстями, но живых, действующих, борющихся и погибающих, представлять фигуры условные, впрочем, приспособленные к известным театральным эффектам, противоречащие самим себе, как неловкое исполнение противоречит задуманному намерению? Кто может наслаждаться литературным или художественным произведением, несмотря на то, что чувство истины в нем оскорблено, тот, разумеется, с нами не согласится; но мы пишем не для него. Тщетно станете вы искать во всех длинных пяти актах "Паткуля" хотя что-нибудь непредвиденное, невольно потрясающее, какой-нибудь, хотя далекий, отголосок тех "простых и сладких звуков", которыми так богат Шекспир... Опять Шекспир? - спросите вы. Да, опять Шекспир, и всегда Шекспир - и не только он, но и Корнель, и даже Расин и Шиллер... Не умрут эти поэты, потому что они самобытны, потому что они народны и понятны из жизни своего народа... А пока у нас не явятся такие люди, мы не перестанем указывать на те великие имена, не для того, чтобы подражали им, но для того, чтобы возбудить честное соревнование и оправдать нашу критику. Понятно, почему русские во время младенчества нашей словесности говорили о своих Молиерах и Вольтерах; но теперь мы возмужали; и, с гордостью глядя на свое прошедшее, с доверенностью на будущее, мы можем, в надежде на собственные силы, сознаться, в чем еще мы бедны... У нас нет еще драматической литературы и нет еще драматических писателей... Эта жила в почве нашей народности еще не забила обильным ключом, а неловко скрытое подражание в состоянии радовать только тех, которые внутренно согласны с г-жою Сталь, что: la litterature en Russie est l'amusement de quelques gentilshommes {литература в России есть развлечение нескольких дворян (франц.).}, и совершенно удовлетворены такой невинной забавой. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |