| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
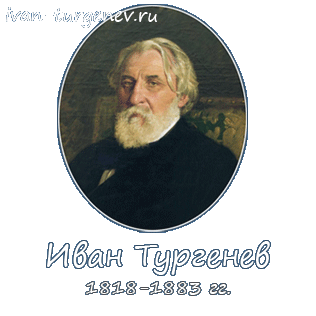
Письмо T. H. Грановскому - Письма (1831-1849) - Мемуары и переписка- Тургенев Иван Сергеевич18(30) мая 1840. Берлин Берлин. 30-го майя 1840-го г. Я в Берлине восьмой день, любезный Грановский, уже огляделся и немного обжился и чувствую потребность писать к Вам. Я приехал сюда, почти не останавливаясь, из Неаполя (в 15 дней), и так велико во мне было стремленье вернуться в Берлин - что я покинул Италию без большого сожаленья. Признаюсь - не верится теперь - скитаясь по пыльным улицам Берлина, под дождем и при холодном ветре - что не далее как за 20 дней срывал теплые, сочные апельсины с деревьев в Сорренто, слушал плеск Средиземного моря. Я здесь не нашел ни Белявского1, ни Триттена - один поехал в Баден, другой в Англию. Маттисон здесь. Русских мало - и тех я еще не знаю. Я в Италии привык к обществу. Каждый вечер мы (Станкевич, Марков (живописец) и я) проводили у Ховриных, наверно известных Вам по имени... нас привлекала дочь, милая, умная девушка2. Невольно вспоминается мне зима, проведенная мной здесь с Вами... но мне кажется, я не могу быть вполне счастливым - Судьба-с! Вы и Станкевич вполне довольствовались друг другом: Вас связывало и давнее знакомство, и обмен мыслей, общие желания; на что Вам был третий? Притом, моя болезнь - и множество нелепостей в моем Wesen, которым я всё еще недоволен и над которым буду, кажется, трудиться весь свой век, пока не буду лежать "in cold obstruction", к<ак> говорит отец Шекспир3. Я в Риме немного сблизился с Станкевичем4, и я был бы неблагодарен, как черт знает что, если б не был рад и доволен, что хотя дружески знаком и с ним и с Вами! "Du bleibst doch immer was du bist!",-- сказал Гёте5. "Nur seine Grenze erkennen",-- гов<орит> Вердер. Кстати, он мне дает уроки. Дело, слава богу, идет на лад. Он мне с слезами на глазах говорил о покойном Алтенштейне: "Er war ein grosser Geist im hochsten Sinne des Worts... nur hatt'er bleierne Fessel zu tragen". Я думаю - Вы уже знаете, что управлять министерством пока - предоставлено сыну покойного - Ладенбергу6. Король всё еще очень слаб7. Лёве немного, немного постарела - и поет так же хорошо... с теми же грехами, как и прежде. Бессер вчера вернулся с ярмарки в Лейпциге - там готовится Buchdruckerfest. В Майнце не будет ничего - и почти везде старались заглушить это. Вы вправе требовать от меня многое об Италии - но я сам еще не знаю ясно, что я оттуда вынес: но что я выехал богаче, чем приехал, в этом я уверен. Со мной случилось то же, что с бедным человеком, получившим огромное наследство: трудно и запуганно. Целый мир, мне не знакомый, мир художества - хлынул мне в душу - но сколько прекрасного и великого ускользнуло от моих взоров, как еще я нелепо понимал изящное! Но, несмотря на это, Formen- und Farbensinn во мне проснулся и развивался: я начинал находить наслажденья в художестве, до тех пор мне неизвестные. Скажу Вам на ухо: до моего путешествия в Италию мрамор статуи был мне только что мрамор, и я никогда не мог понять всю тайную прелесть живописи. Но, с другой стороны, смущало меня в Риме положение народа, притворная святость, систематическое порабощение, отсутствие истинной жизни... все движения, колебающие Северную и Среднюю Европу, не переходят Апенинов. Нет! русский народ имеет неисчислимо более надежд и силы, чем италиянцы - особенно южные - они отжили и сошли с поприща истории. Может быть, в Северной Италии, там и сям, еще не исчез гордый дух, любовь свободы республик Ит<алии> в средних веках - может быть; я не знаю ни Пиемонта, ни Ломбардо-в<енецианского> к<оролевств>а - но Рим, но Неаполь! Стоит прогуляться на molo вечером: вот {Далее зачеркнуто: пастор} аббат проповедует крикливым голосом, показывая на Христа, окровавленного всюду, на каждом сгибе - и мелкие деньги сыплются на тарелку, разносимую капуцином, из карманов православных; вот Шарлатан; вот импровизатор; вот pulcinello8. Народ, лежавший почти целый день в блестящем песке приморья, теперь сидит и слушает, и крестится, и молится; а между тем у вас украли платок, портфель, часы, если возможно.-- Посмотрите наверх - вдоль моря, кругом: наверху, на горе стоит замок; у моря - другой... третий; гремят барабаны, войска стоят всюду - le roi de Naples se precautionne. Между импровизаторами есть люди замечательные: особенно один, безногий - чрезвычайно похожий на Мирабо. Жаль, что я не мог понимать неаполитанского наречья: в фарсах pulcinelli много истинно комического. Мне Вердер советовал читать недавно вышедшие сочинения Лудвига Achim v<on> Arnirn; он уверяет меня, что нигде средние века не представлены так истинно и живо, как в его романе "Die Kronenwachter"9. Читаю я современную немецкую лит<ератур>у: до сих пор ничего не попалось хорошего. Маркграфы, Марловы, Мундты10, Дрекслер-Манфреды11 - бог с вами, друзья мои! И тем обиднее, что это не просто вздор; нет - но удивляешься, как должны быть неблагодарны почвы, оплодотворенные новыми идеями и так скудно, так плачевно развивающие их! Не курица несет золотые яйца - золотая курица не разродится никаким яйцом. Я познакомился, впрочем, с одним Tuchtigen Mann, Chamisso - я его не знавал (я говорю про его сочиненья). Прочтите - если он у Вас - его "Frauenliebe und Leben"; "Die Klage der Nonne"; "Das Dampfross"; "Die Jungfrau v<on> Stubbenkammer"12. Из исторических книг начал я читать очень любопытную брошюру: "Maximilien 1-r" p<ar> Le Glay13 - прочел "Philosophie und Christenthum" Фейербаха! О славный человек, ей-богу, Этот Ф<ейербах>14! Скажите Драшусову15 (кланяйтесь ему и Крюгеру), чтобы он сделал одолжение и отдал мои книги - Hugo, Heine (и еще, кажется?) на Самотеку, в приходе Спаса на песках, в доме моей матери, служителю Кириле Табаленкову. Прощайте; будьте здоровы. Станкевич не совсем был хорош, когда я его оставил. Известий еще я не получал {Далее зачеркнуто: ни} от него, ни от Ефремова, с которым я познакомился. Я здоров: не забывайте меня и напишите когда-нибудь. Преданный Вам от души И. Тургенев. На обороте: Russland. Moskau. Его высокоблагородию милостивому государю Тимофею Николаевичу Грановскому. В Москве. Отдать в правление им<ператорского>, московского) университета. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ 4 (16) июля 1840. Берлин Берлин, 16-го/4-го июля 1840-го года. Нас постигло великое несчастие, Грановский. Едва могу я собраться с силами писать. Мы потеряли человека, которого мы любили, в кого мы верили, кто был нашей гордостью и надеждой... 24-го июня, в Нови - скончался Станкевич. Я бы мог, я бы должен здесь кончить письмо - что остается мне сказать - к чему Вам теперь мои слова? Не для Вас, более для меня продолжаю я письмо: я сблизился с ним в Риме1: я его видел каждый день - и начал оценять его светлый ум, теплое сердце, всю прелесть его души... тень близкой смерти уже тогда лежала на нем. Мы часто говорили о смерти: он признавал в ней границу мысли и, мне казалось, тайно содрогался. Смерть имеет глубокое значение, если она выступает - как последнее - из сердца полной, развившейся жизни: старцу - она примирение; но нам, но ему - веление судьбы. Ему ли умереть? Он так глубоко, так искренно признавал и любил святость жизни, несмотря на свою болезнь он наслаждался блаженством мыслить, действовать, любить: он готовился посвятить себя труду, необходимому для России... Холодная рука смерти пала на его голову, и целый мир погиб. Вот здесь - die kalte Teufelsfaust, die sich - nicht vergebens tiickisch ballt. От 11-го июня получил я от него письмо из Флоренции2. Вот Вам отрывки: "...во Флоренции я имею иногда отдых, вообще я поправился и, кажется, дело идет вперед... Наконец решено, чтобы я провёл лето на озере Комо... Mme Diakof3, услышав в Неаполе о моей болезни... приехала с сыном, и мы вместе пробудем лето".-- Он мне тут доверяет свое отношение к покойной сестре Дьяковой4. Помните: "Закрылись прекрасные очи" - хорал Клюшникова5? И он умер, и Станкевич умер! - "В Дьяковой я нашел настоящую сестру, по-прежнему; ее заботы и участие действуют на поправление сил моих больше всего". Его мучило тягостное отношение к Берте: он поручал мне сходить, к ней, узнать и т. д.-- "У меня в голове много планов - но когда их не было? Собираюсь зимой работать над Историей философии. Есть в голове тоже несколько статей. Бог знает, как это всё переварится"... "Напишите о Вердере; скажите ему мое почтение; скажите ему, что его дружба будет мне вечно свята и дорога и что всё, что во мне есть порядочного, неразрывно с нею связано... Прощайте, пока!". Вот еще отрывок: "Фроловых я застал еще здесь. Лиз<авета> Пав<ловна> была ужасно больна; теперь, к счастию, стала поправляться; я думаю, по выздоровлении ее, они поедут в Неаполь. Кении наняли здесь дом на целый год". Через 14 дней он умирал, ночью, в Нови. 12-го июля получил я следующее письмо от Ефремова : "Нови, 27-го июня. Иван Сергеевич! Немного собравшись с духом, спешу уведомить вас о несчастье, случившемся со всеми нами. В Нови, городке миль 40 от Генуи, по дороге в Милан, в ночь с 24 на 25-е умер Станкевич. Он ехал в Комо. Не знаю, что писать, голова идет кругом, хаос. Кончивши все дела в Генуе, я располагаюсь ехать прямо в Берлин, если ничто не остановит. Теперь хлопочу, чтобы приготовить всё для перевоза его тела в Россию. Прощайте. Надеюсь скоро с вами увидеться. Прощайте, ваш А. Ефремов". Я с нетерпением его ожидаю, узнаю всё - и тотчас всё Вам напишу. Боже мой! как этот удар поразит Вас, Неверова, Фроловых, Кении, Бакуниных, всех его знакомых и друзей! Я не мог решиться сказать об этом Вердеру: я написал ему письмо6. Как он был глубоко поражен! Я ему сказал при свидании: "In ihm isfc auch ein Teil von Ihnen gestorben". Он чуть-чуть не зарыдал. Он мне говорил: "Ich fuhlees. - Ichbinaui demhaJben Wegemeines Lebens: meine besten Schuler, meine Junger sterben ab - ich uberlebe sie!". Он мне прочел превосходное стихотворение "Der Tod", написанное им тотчас после получения известия. Если он согласится, а его спишу и пошлю к Вам.-- Я оглядываюсь, ищу - напрасно. Кто из нашего поколения может заменить нашу потерю? Кто, достойный, примет от умершего завещание его великих мыслей и не даст погибнуть его влиянию, будет идти по его дороге, в его духе, с его силой? О если что-нибудь могло бы заставить меня сомневаться в будущности, я бы теперь, пережив Станкевича, простился с последней надеждой. Отчего не умереть другому, тысяче другим, мне напр.? Когда же придет то время, что более развитый дух будет непременным условием высшего развития тела и сама наша жизнь условие и плод наслаждений творца, зачем на земле может гибнуть или страдать прекрасное? До сих пор казалось - мысль была святотатством, и наказание неотразимо ожидает всё, превышающее блаженную посредственность. Или возмущается зависть бога, как прежде зависть греческих богов? Или нам верить, что всё прекрасное, святое, любовь и мысль - холодная ирония Иеговы? Что же тогда наша жизнь? Но нет - мы не должны унывать и преклоняться. Сойдемтесь - дадим друг другу руки, станем теснее: один из наших упал - быть может, лучший. Но возникают, возникнут другие; рука бога не перестает сеять в души зародыши великих стремлений и, рано ли, поздно - свет победит тьму. Да, но нам, знавшим его,-- его потеря невозвратима. Едва ли не Rahel сказала: "Ware noch nie ein junger Mann gestorben, hatte man nie die Wehmuth gekannt". Из сердца творца истекает и горе и радость.-- Freude und Leid; часто их звуки дрожат родным отголоском и сливаются: одно неполно без другого. Теперь череда горю... Прощайте; будьте Вы здоровы. Напишите мне слово ответа. Мне кажется, я Вас еще более полюбил со смерти Станкевича. Ваш И. Тургенев. Т. Н. ГРАНОВСКОМУ 26 июля (7 августа) 1840. Берлин Мы все здесь в тревоге на Ваш счет, любезный Грановский. Зная Вашу привязанность к покойному Станкевичу-- мы не можем без опасения подумать о Вашем состояний при получении известия о его смерти. По расчетам, ответа от Вас еще быть на может, и мы с тоской его ожидаем1. Бакунин здесь: он мне отдал Вашу записку2, я с ним вполне и тесно сошелся: глубокая, искренняя натура! Мы видимся каждый день: первые 5 ночей, за неимением квартиры, он даже ночевал у меня. Цель моего письма следующая: Вы знаете отношения покойного к Берте3. Узнавши о прибытии Ефремова и о смерти Станкевича, она приехала из Штеттина: сперва подсылала сестру, некоего Фрауде и пр. Наконец, была сама у Ефремова. Ефремов пригласил меня ехать вместе с ним к ней. Она казалась очень расстроенной, но вела себя прилично. Она показала нам письмо руки Станкевича, из которого видно, что Драшусов занял у нее в прошлом году 112 тал<еров> (или, как Ефремов говорит,-- но у нее, а у Станкевича - и Станкевич подарил ей эти деньги: всё это вам должно быть известно). Драшусов обещал отдать ей в январе и до сих пор ничего не выслал. Я почел себе за долг поддержать ручательство Станкевича и, видя ее грустное положение, дать ей 75 т<алеров>. Попросите от меня Драшусова прибавить эту сумму к 111 талерам), которые он мне должен и которые отдаст со временем; а остальное выслать на имя Ефремова (Dorotheen-strasse, No 18). Мы ей тотчас перешлем эти деньги. Сверх того она намекает, и очень ясно, на то, что будто Станкевич уговорил ее остаться в Берлине, когда она хотела возвратиться в Мекленбург и примириться с родными; что через это она с ними расторгнула все связи и даже лишилась не только участка в наследстве дяди, но даже всего наследства: будто было завещание, qui la rendait legataire universelle, и это завещание увезено или уничтожено дядей (братом умершего) и т. д. За это, по ее понятиям, она вправе требовать вознаграждения и даже хотела обратиться к отцу Станкевича и теперь пишет к Вам письмо, довольно неприятное, как Вы можете представить. Адресе написал я: я не мог sans mauvaise grace отказаться; но вторично - избегну, просто откажу. Ефремов Вам кланяется и велит Вам сказать, что в последнее время перед смертью он часто изъявлял желание совершенно с ней прекратить всякое сношение, получить от нее свой портрет, письма и т. д. Вы сами знаете, что и как думал об этом Станкевич. Притом она, кажется, прескверное создание: успела быть у священника, говорила с ним и пр. Я оттого и написал ей адресе, что она бы непременно от него или другого его узнала. Мы все решились не вступать с ней более ни в какие сношения, исключая пересылки остальных денег. Вы рассудите лучше нас, что Вам следует предпринять. Из последнего письма Станкевича ко мне ясно видно, как ему это всё тяготело. "Будет об этой дряни,-- говорит он.-- Поверьте, тошно думать". И точно - полно об этой дряни...4 Бумаги покойного и часть его книг прибудут сюда не ранее 20-го августа н.с. Все его книги хранятся здесь у Бессера и будут храниться до Вашего разрешения - что с ними делать... Бакунин и Ефремов остаются здесь всю осень. Я хочу сделать небольшое путешествие в Дрезден и Нюрнберг. Сегодня кончил Вердер - прекрасно5. Извините, что не нишу Вам большего письма. Из Дрездена получил огромное6. Министром просвещения будет решительно Эйхгорн. Король позволил Арндту читать снова в Бонне, и студенты приняли его с восторгом7. Говорят, Гриммы прибудут в Берлин (почти верное известие)...8 Прощайте, будьте здоровы и не забывайте меня. Ваш Тургенев. Берлин. 7-го августа н.с. 1840. P. S. Ефремов писал к Вам 2 письма - и просит от Вас ответа... На обороте: Russland. Moskau. Его высокородию милостивому государю Тимофею Николаевичу Грановскому. В Москве. В императорский Московский университет. |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |