| ГЛАВНАЯ |  | БИОГРАФИЯ |  | ТВОРЧЕСТВО |  | КРИТИКА |  | ПИСЬМА |  | РЕФЕРАТЫ |
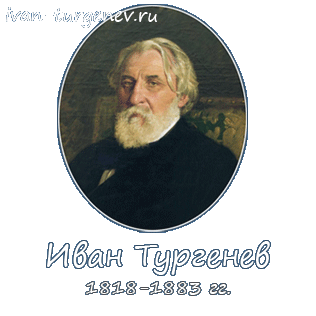
Старые портреты - Отрывки из воспоминаний - своих и чужих - И.С. Тургенев...Верстах в сорока от нашего села проживал много лет тому назад двоюродный дядя моей матери, отставной гвардии сержант и довольно богатый помещик, Алексей Сергемч Телегин - в родовом своем имении Суходоле. Он сам никуда не выезжал, а потому и не посещал нас; но меня, раза два в год, посылали к нему на поклон - сперва с гувернером, а потом одного. Алексей Сергеич принимал меня всегда очень радушно - и я гащивал у него дня по три, но четыре. Зазнал я его уже стариком; в первый мой приезд мне, помнится, было лет двенадцать; а ему уже за семьдесят лет перевалило. Родился он еще при императрице Елизавете - в последний год ее царствования. Он жил один с своей женой, Маланьей Павловной; она была лет на десять моложе его. Двух дочерей он с ней прижил; но они уже давно вышли замуж и редко посещали Суходол; между ними и их родителями черная кошка пробежала, и Алексей Сергеич почти никогда не упоминал о них. Вижу, как теперь, этот старинный, уж точно дворянский, степной дом. Одноэтажный, с громадным мезонином, построенный в начале нынешнего столетия из удивительно толстых сосновых бревен - такие бревна привозились тогда из-за жиздринских боров, их теперь и в помине нет! - он был очень обширен и вмещал множество комнат, довольно, правда, низких и темных: окна в стенах были прорублены маленькие, теплоты ради. Как водится (по-настоящему следует сказать: как водилось), службы, дворовые избы окружали господский дом со всех сторон - и сад к нему примыкал небольшой, но с хорошими фруктовыми деревьями, наливными яблоками и бессемянными грушами; на десять верст кругом тянулась плоская, жирно-черноземная степь. Никакого высокого предмета для глаза: ни дерева, ни даже колокольни; где-где разве торчит ветряная мельница с прорехами в крыльях; уж точно: Суходол! Внутри дома комнаты были наполнены заурядною, нехитрою мебелью; несколько необычным являлся стоявший на окне залы верстовой столбик со следующими надписями: "Если ты 68 раз пройдешь вокруг сей залы - то сделаешь версту; если ты 87 раз пройдешь от крайнего угла гостиной до правого угла биллиарда - то сделаешь версту" - и т. п. Но пуще всего поражало в первый раз приехавшего гостя великое количество картин, развешанных по стенам, большей частью работы так называемых итальянских мастеров: всё какие-то старинные пейзажи да мифологические и религиозные сюжеты. Но так как все эти картины очень почернели и даже покоробились, то в глаза били одни пятна телесного цвета - а не то волнистое красное драпери на незримом туловище, или арка, словно в воздухе висящая, или растрепанное дерево с голубой листвой, или грудь нимфы с большим сосцом, подобная крыше с суповой чаши, взрезанный арбуз с черными семечками, чалма с пером над лошадиной головой - или вдруг выпячивалась гигантская коричневая нога какого-то апостола, с мускулистой икрой и задранными кверху пальцами. В гостиной на почетном месте висел портрет императрицы Екатерины II во весь рост, копия с известного портрета Лампи, предмет особого поклонения, можно сказать, обожания хозяина. С потолков спускались стеклянные люстры в бронзовых оправах, очень маленькие и очень пыльные. Сам Алексей Сергеич был приземистый, пузатенький старичок с одноцветным пухлым, но приятным лицом, с ввалившимися губками и очень живыми глазками под высокими бровями. Он зачесывал на затылок свои редкие волосики: он только с 1812 года перестал пудриться. Ходил Алексей Сергеич постоянно в сером "реденготе" с тремя воротниками, падавшими на плечи, полосатом жилете, замшевых штанах и темно-красных сафьянных сапожках с сердцевидными вырезами и кисточками наверху голенищ; носил белый кисейный галстух, жабо, маншеты и две золотые английские "луковицы", по одной в каждом кармане жилета. В правой руке он обыкновенно держал эмалированную табатерку со "шпанским" табаком - а левой опирался на трость с серебряным, от долгого употребления гладко вытертым набалдашником. Голосок имел Алексей Сергеич носовой, пискливый - и постоянно улыбался, ласково, но как бы свысока, не без некоторой самодовольной важности. Он и смеялся тоже ласково, тонким, как бисер мелким смехом. Вежлив и приветлив был он до крайности - на старинный екатерининский манер - и двигал руками медленно и округло, тоже по-старинному. По слабости ног он не мог ходить, а перебегал торопливыми шажками с кресла на кресло, в которое садился вдруг - скорее падал - мягко, как подушка. Как я уже сказал, Алексей Сергеич никуда не выезжал и с соседями знался мало, хоть и любил общество,-- ибо словоохотлив был! Правда, общества у него вдоволь водилось и дома: разные Никаноры Никанорычи, Савастеи Савастеичи, Федулычи, Михеичи, всё бедные дворянчики в поношенных казакинах и камзолах, часто с барского плеча, проживали под его кровом, не говоря уже о бедных дворяночках в ситцевых платьях, черных платках внакидку и с гарусными ридикюлями в крепко стиснутых пальцах - разных Авдотиях Савишных, Пелагеях Мироновных и просто Феклушках и Аринках, приютившихся на женской половине. За стол у Алексея Сергеича никогда меньше пятнадцати человек не садилось... Такой он был хлебосол! Между всеми этими приживальщиками особенно выдавались две личности: карлик, по прозвищу Янус, или Двулицый, датского, а иные утверждали - еврейского происхождения, да сумасшедший князь Л. В противность тогдашним обычаям, карлик этот вовсе не служил потехой для господ и не был шутом; напротив: он постоянно молчал, вид имел озлобленный и суровый, хмурил брови и скрипел зубами, как только обращались к нему с вопросами. Алексей Сергеич звал его также филоз-офом и даже уважал его; за столом ему всегда первому, после гостей и хозяев, подавали блюда. "Бог его обидел,-- говаривал Алексей Сергеич,-- на то его господня воля; а УЖ мне-то его не обижать стать".-- "Почему же он филозоф?" - спросил я однажды. (Меня Янус не жаловал, бывало, лишь только я подойду к нему - он тотчас окрысится и проворчит хрипло: "Чужак! не приставай!") "Как же, помилуй бог, не филозоф? - ответил Алексей Сергеич.-- Ты, сударик, посмотри, как он таково хорошо молчит!" - "А почему же он Двулицый?" - "А потому, сударик, что наружу-то у него одно лицо - вот вы, верхогляды, и судите... А другое, настоящее, он скрывает, и то лицо знаю я один - и люблю его за это... Потому: хорошее то лицо. Ты, например, и глядишь, да ничего не видишь... а я и без слов вижу: осуждает он меня за нечто; потому: он строгий! И всегда-то за дело! Сего ты, судари", не поймешь; но только верь мне, старику!" Настоящей история Двулицего Януса - откуда он прибыл, как попал к Алексею Сергеичу - никто не ведал; зато история князя Л. была хорошо всем известна. Двадцатилетним юношей, из богатой и знатной фамилии, он приехал в Петербург на службу в гвардейском полку; на первом же куртаге императрица Екатерина его заметила - и, остановившись перед ним да указав на него веером, громко промолвила, обратись к одному из своих приближенных: "Посмотри, Адам Васильевич, какой красавчик! Настоящая куколка!" Кровь бросилась бедному мальчику в голову: вернувшись домой, он велел заложить коляску - и, надев на себя анненскую ленту, пустился разъезжать не городу, словно он и точно в случай попал. "Дави всех,-- кричал он кучеру,-- кто не посторонится!" Тотчас же всё это было доведено до высочайшего сведения; вышел приказ - объявить его сумасшедшим и отдать на порук" двум его братьям; а те, нимало не медля, отвезли его в деревню и посадили в каменный мешок на цепь. Желая воспользоваться его имением, они не выпустили несчастного даже тогда, когда он опомнился и пришел в себя - и так и продержали его взаперти, пока он действительно не сошел с ума. Но не впрок пошло им их злодейство: князь Л. пережил своих братьев и, после долгих мытарств, очутился на попечении Алексея Сергеича, которому доводился родственником. Это был толстый, совершенно лысый человек с длинным тонким носом и голубыми глазами навыкат. Он совсем разучился говорить - он только бурчал что-то непонятное; но отлично пел старинные русские песни, сохранив до глубокой старости серебристую свежесть голоса и во время пения ясно и четко произнося каждое слово. Иногда находило на него нечто вроде ярости - я тогда он делался страшен: становился в угол, к стене лицом - и весь потный да красный, через всю лысину до затылка красный, заливаясь злобным хохотом я топая ногами, повелевал наказывать кого-то - вероятно, братьев. "Бей! - хрипел он, давясь и кашляя от смеха,-- секи, se жалей, бей, бей, бей извергов, злодеев моих! Вот так! Вот так!" Накануне своей смерти он очень удивил и испугал Алексея Сергеича. Вошел к нему в комнату весь бледный да тихий - и, поклонившись поясным поклоном, сперва поблагодарил за приют и призрение, а потом попросил послать за священником; ибо смерть пришла к нему - он ее видел - и ему надо всех простить и себя обелить. "Как же ты ее видел? - пробормотал изумленный" Алексей Сергеич, в первый раз услыхав от него связную речь.-- Какова она из себя? С косою, что ли?" - "Нет,-- отвечал князь Л.,-- старушка простенькая, в кофте - только на лбу глаз один, а глазу тому и веку нет". И на другой день князь Л. действительно скончался, совершив всё должное и простившись со всеми, вразумительно и умиленно. "Вот так и я умру",-- замечая, бывало, Алексей Сергеич. И точно: нечто подобное с ним случилось - о чем после. А теперь возвратимся к прежнему. С соседями, я уже сказал, Алексей Сергеич не водился; и они его недолюбливали, называли его чудаком, гордецом, пересмешником и даже не признающим властей мартинистом, не понимая, конечно, значения этого последнего слова. До некоторой степени соседи были правы: Алексей Сергеич чуть не семьдесят лет сряду прожил в своем Суходоле, не имея почти никаких сношений с предержащими властями, с начальством и судом. "Суд для разбойника, команда для солдата,-- говаривал он,-- а я, слава богу, не разбойник и не солдат". Чудаковат был точно Алексей Сергеич, но душа в нем была не из мелких. Порасскажу кое-что о нем. Доподлинно я никогда не знал, какие были его политические мнения - если только можно применить к нему такое новейшее выражение; но, по-своему, он был аристократ - скорей аристократ, чем барин. Не раз он сожалел о том, что бог не дал ему сына-наследника "в честь роду, в продолжение фамилии". У него в кабинете висело на стене родословное дерево Телегиных, очень ветвистое, со множеством кружков в виде яблоков, в золотой раме. "Мы, Телегины,-- говорил он,-- род исконный, извечный; сколько нас, Телегиных, ни было,-- по прихожим мы не таскались, хребта не гнули, по рундучкам ног не отстаивали, по судам не кормились, жалованного не нашивали, к Москве не тянули, в Питере не кляузничали; сиднями сидели, каждый на своей чети, свой человек, на своей земле... гнездари, сударь, домовитые! Я сам хоть и в гвардии служил - да, спасибо, недолго". Алексей Сергеич предпочитал старое время. "Вольнее было тогда, благообразнее, по чести тебе доложу! - а с тысяща восемьсотого года (почему именно с этого года? - он не объяснял) пошла, братец ты мой, эта военщина, солдатчина пошла. Надели себе на голову господа военные какие-то там салтаны из петушиных хвостов - и сами петухам уподобились; шею затянули туго-натуго... хрипят, глаза таращат - да и как не хрипеть? Надысь ко мне полицейский капрал какой-то наехал: "Я, мол, до вас, ваше благородие... (вишь, чем удивить вздумал!., я и сам знаю, что рожден благо...) имею до вас дело". А я ему: "Сударь почтенный, ты сперва крючки-то на воротнике расстегни. А то, помилуй бог, чихнешь! Ах, что с тобою будет! Что с тобою будет! Лопнешь ты, как гриб-дождевик... А я отвечай!" И пьют же они, эти военные господа,-- о-го-го! Я им всё больше цимлянского велю подавать; потому - им что цимлянское, что понтак - всё едино; гладко, скоро так у них в горле проходит - где тут различить? А то вот еще: соску стали эту сосать, табак курить. Запихает себе военный человек эту самую соску под усища в губища - ноздрями, ртом и даже ушами дым пущает,-- и думает, что герой! Вот и зятики мои - хоть один из них и сенатор, а другой какой-то там куратор - тож эту соску сосут и за умниц тож себя почитают!.." Алексей Сергеич терпеть не мог курительного табаку, да вот еще собак, особенно маленьких. "Ну, коли ты француз, держи себе болонку: ты бегаешь, ты прыгаешь тюды-сюды, и она за тобой, задравши хвост... а нашему-то брату на что она?" Очень он был опрятен и привередлив. Об императрице Екатерине говорил не иначе как с восторгом и возвышенным, несколько книжным слогом: "Полубог был, не человек! Ты, сударик, посмотри только на улыбку сию,-- прибавлял он, почтительно указывая на лампиевский портрет,-- и сам согласишься: полубог! Я в жизни своей столь счастлив был, что удостоился улицезреть сию улыбку, и вовек она не изгладится из сердца моего!" И при этом он сообщал анекдоты из жизни Екатерины, каких мне нигде не случалось ни читать, ни слышать. Вот один из них. Алексей Сергеич не позволял ни малейшего намека на слабости великой царицы. "Да и наконец,-- восклицал он,-- разве о ней можно так судить, как о прочих людях? Однажды она, во время утреннего туалета, в пудраманте сидя, повелела расчесать себе волосы... И что же? Камерфрау проводит гребнем - а электрические искры так и сыплются! Тогда она подозвала к себе тут же по дежурству находившегося лейб-медика Роджерсона и говорит ему: "Меня, я знаю, за некоторые поступки осуждают: но видишь ты электричество сие? Следовательно, при таковой моей натуре и комплекции - сам ты можешь заключить, ибо ты врач,-- что несправедливо меня осуждать, а постичь меня должно!" Неизгладимым остался в памяти Алексея Сергеича следующий случай. Стоял он однажды во внутреннем карауле, во дворце - а было ему всего лет шестнадцать. И вот проходит императрица мимо его - он отдает честь... "а она,-- с умилением тут опять восклицал Алексей Сергеич,-- улыбнувшись на юность мою и на усердие мое, изволила дать мне ручку свою поцеловать и по щеке потрепать и расспросить: кто я? откуда? какой фамилии? а потом...-- Тут голос старика обыкновенно прерывался,-- потом приказала моей матушке от своего имени поклониться и поблагодарить ее за то, что так хорошо воспитывает детей своих. И был ли я при сем на небе или на земле - и как и куда она изволила удалиться, в горния ли воспарила, в другие ли покои проследовала... по сие время не знаю!" Я не раз пытался расспрашивать Алексея Сергеича о тех давних временах, о людях, окружавших императрицу... Но он большей частью уклонялся. "Что о старине толковать-то? - говаривал он...-- только себя мучить: что вот, мол, был ты тогда молодцом, а теперь и последних зубов у тебя во рту не стало. Да и то сказать: хороша старина... ну и бог с ней! А что касательно до тех людей - ведь ты, чай, егоза, о случайных людях речь заводишь? - так видал ты, как на воде волдырь вскочит? Пока он цел да держится - какие же на нем цвета играют! И красные, и желтые, и синие - просто сказать надо: радуга или вот алмаз! Только вскорости он лопается - и следа от него нет. Так вот и люди те такие были". -- Ну, а Потемкин? - спросил я однажды. Алексей Сергеич принял важный вид. -- Потемкин, Григорий Александрович, был муж государственный, богослов, екатерининский воспитанник, чадо ее, так надо сказать... Но довольно о сем, сударик! Алексей Сергеич был человек очень набожный - и хотя через силу, но церковь посещал исправно. Суеверия в нем не замечалось; он издевался над приметами, глазом и певчей "нескладицей", однако не любил, когда заяц ему перебегал дорогу, и встреча с попом была ему не совсем приятна. Со всем тем был к духовным лицам очень почтителен я под благословенье подходил и даже руну всякий раз целовал, но неохотно с ними беседовал. "Очень от них дух силён идет,-- объяснял еж,-- я же, грешный, непутем изнежился; волосы у них такие большие да масленые, расчешут их во все стороны - думают, что тем мне уважение доказывают, и громко так между разговором крякает - от робости, что ля, или тоже желают мне тем угодить. Ну да и смертный час напоминают. А я, как-никак, еще жить желаю. Только ты, сударик, этих речей за мной ее повторяй; уважай духовный чин - одни дураки его не уважают; и я виноват, что на старости лет вздор горожу". Учен был Алексей Сергеич на медные деньги - как все тогдашние дворяне; но до некоторой степени сам чтением восполнял этот недостаток. Книги же читал одни русские, конца прошлого века; новейших сочинителей находил пресными и в слоте слабыми... Во время чтения ставился возле него на одноногий круглый столик серебряный жбан с каким-то особенным мятным пенистым квасом, от которого приятный запах распространялся по всем комнатам. Сам же он надевал при этом на конец носа большие круглые очки; но в последнее время не столько читал, сколько задумчиво глядел выше оправы очков, поднимая брови, жуя губами и вздыхая. Раз я застал его плачущим с книгою на "оленях - что меня очень, признаться, удивило. Вспомнились ему следующие стишки: О, всебедный род людской! Незнаком тебе покой! Ты лишь оный обретаешь, Пыль могильну коль глотаешь.., Горек, горек сей покой! Спи, мертвец!.. Но плачь, живой! Стишки эти были сочинены некиим Гормич-Гормицким, странствующим пинтой, которого Алексей Сергеич приютил было у себя в даме - так как он показался ему человеком деликатным и даже субтильным: носил бамаачки с бантиками, говорил на о и, поднимая глаза к небу, часто вздыхал; кроме всех этих достоинств, Гормич-Гормицкий изрядно говорил по-французски, ибо получил воспитание в иезуитском коллегиуме,-- а Алексей Сергея" только "понимал". Но, напившись раз мертвецки пьяным в кабаке, этот самый субтильный Гормицкий оказал буйство непомерное: "вдребезгу" раскровянил Алексей Сергеичина камердинера, повара, двух подвернувшихся прачек в даже постороннего столяра - да несколько стекол перебил в окнах, причем кричал неистово: "А вот я им доскажу, этим русским тунеядцам, кацапам необтесанным?" И какая в этом тщедушном существе сила проявилась! Едва с ним сладило восемь человек! За самое это буйств" Алексей Сергеич велел стихотворца вытолкать воя из дому, посадивши его предварительно "афендроном" в снег - дело было зимою - для протрезвления. "Да,-- говаривал, бывало, Алексей Сергеич,-- прешла моя пора; был конь, да изъездился. Вот я и стихотворцев на своем иждивенье содержал, и картины и книги скупал у евреев,-- и гуси были не хуже мухановских, голуби-турманы глинистые настоящие... До всего-то я был охоч! Разве вот собачником никогда не был - потому пьянство, вонь, гаерство! Рьяный был я, неукротимый. Что-бы у Телегина да не первый во всем сорт... да помилуй бог! И конские завод имел на слажу. И шли те коня... откуда ты думаешь, сударик? От самых тех знаменитейших заводов царя Ивана Алексеича, брата Петра Великого... верно тебе говорю! Все жеребцы бурые в масле - гривы поколень, хвосты покопыть... Львы! И всё то было - да быльем поросло. Суета суетствий и всяческая суета! А впрочем - чего жалеть! Всякому человеку свой предел положон. Выше неба не взлетишь, в воде не проживешь, от земли ею уйдешь... поживем еще, как-никак!" И старик опять улыбался и понюхивал свой шпанский табачок. Крестьяне любили его; барин был, по их словам, добрый, сердца не срывчивого. Только и они повторяли, что изъезжен, мол, конь. Прежде Алексей Сергеич сам во всё входил - и в поле выезжал, и на мельницу, и на маслобойню - и в амбары, и в крестьянские избы заглядывал; всем знакомы были его беговые дрожки, обитые малиновым плисом и запряженные рослой лошадью с широкой проточиной во весь лоб, но прозвищу "Фонарь" - из самого того знаменитого завода; Алексей Сергеич сам ею правил, закрутив концы вожжей на кулаки. А как стукнул ему семидесятый годок - махнул старик на всё рукою и поручил управление именьем бурмистр у Антипу, которого втайне боялся и звал Микромэгасом (волтеровские воспоминания!), а то и просто - грабителем. "Ну, грабитель, что скажешь? Много в пуньку натаскал?" - говорит он, бывало, с улыбкой глядя в самые глаза грабителю. "Всё вашею милостью",-- весело отвечает Антип. "Милость милостью - а только ты смотри у меня, Микромэгас! крестьян, заглазных подданных моих, трогать не смей! Станут они жаловаться... трость-то у меня, видишь, недалеко!" - "Тросточку-то вашу, батюшка Алексей Сергеич, я завсегда хорошо помню",-- отвечает Антип-Микромэгас да поглаживает бороду. "То-то, помни!" И барин и бурмистр, оба смеются в лицо друг другу. С дворовыми, вообще с крепостными людьми, с "подданными" (Алексей Сергеич любил это слово) он обходился кротко. "Потому, посуди, племянничек, своего-то ничего нету, разве крест на шее - да и тот медный,-- на чужое зариться не моги... где ж тут быть разуму?" Нечего и говорить, что о так называемом крепостном вопросе в то время никто и не помышлял; не мог он волновать и Алексея Сергеича: он преспокойно владел своими "подданными"; но дурных помещиков осуждал и называл врагами своего звания. Он вообще дворян разделял на три разряда: на путных, "коих маловато"; на распутных, "коих достаточно", и на беспутных, "коими хоть пруд пруди". А если кто из них с подданными крут и притеснителен - тот и перед богом грешен и перед людьми виноват! Да: хорошо жилось дворовым у старика; "заглазным подданным", конечно, хуже, несмотря на трость, которою он грозил Микромэгасу. И сколько их водилось, этих самых дворовых, в его доме! И всё больше старые, жилистые, волосатые, ворчливые, в плечах согбенные, в нанковые длиннополые кафтаны облеченные - с крепким, кислым запахом! А на женской половине только и слышно было, что топот босых ног да шлюпанье юбок. Главного камердинера звали Иринархом; и кликал его всегда Алексей Сергеич протяжным криком: "И-ри-на-а-арх!" Других он звал: "Малый! Малец! Кто там есть подданный!" Колокольчиков он не терпел: что за трактир, помилуй бог! И удивляло меня то, что в какое бы время ни позвал Алексей Сергеич своего камердинера - тот немедленно являлся, словно из земли вырастал - и, сдвинув каблуки и заложив за спину руки, стоял перед барином угрюмый и как бы злой, но усердный слуга! Щедр был Алексей Сергеич не по состоянию; но не любил, когда его величали благодетелем. "Какой я вам, сударь, благодетель!.. Я себе благо делаю - а не вам, сударь мой!" (когда он гневался или негодовал, он всегда "выкал"). "Нищему,-- говаривал он,-- подай раз, подай два, подай три... Ну, а коли он в четвертый раз придет - подать ему ты все-таки подай, только прибавь при сем: ты бы, братец, чем бы другим поработал - не всё ртом".-- "Дяденька,-- спросишь его, бывало,-- если же нищий и после этого в пятый раз придет?" - "А ты и в пятый раз подай". Больных, которые к нему прибегали за помощью, он на свой счет лечил - хотя сам в докторов не верил и никогда за ними не посылал. "Матушка-покойница,-- уверял он,-- ото всех болезней прованским маслом с солью лечила - и внутрь давала и натирала - и всё прекрасно проходило. А матушка моя кто такая была? При Петре Первом рожденье свое имела - ты только это сообрази!" Русский человек был Алексей Сергеич во всем: любил одни русские кушанья, любил русские песни - а гармонику, "фабричную выдумку", ненавидел; любил глядеть на хороводы девок, на пляску баб; в молодости он сам, говорят, пел заливисто и плясал лихо; любил париться в бане - да так сильно париться, что Иринарх, который, служа ему банщиком, сек его березовым, в пиве вымоченным веником, тер мочалкой, тер суконкой, катал намыленным пузырем по барским членам,-- этот вернопреданный Иринарх всякий раз, бывало, говаривал, слезая с полка, красный, как "новый медный статуй": "Ну, на сей раз я, раб божий, Иринарх Тоболеев, еще уцелел... Что-то будет в следующий?" И говорил Алексей Сергеич славным русским языком, несколько старомодным, но вкусным и чистым, как ключевая вода, то и дело пересыпая речь любимыми словцами: "по чести, помилуй бог, как-никак, сударь да сударик..." А впрочем, будет о нем. Побеседуем об Алексей Сергеичевой супруге, Маланье Павловне: Была Маланья Павловна московская уроженка, первой слыла красавицей по Москве, la Vênus de Moscou {московской Венерой (франц.).}. Я ее зазнал уже старой, худой женщиной, с тонкими, но незначительными чертами лица, с заячьими кривыми зубками в крошечном ротике, со множеством мелко завитых желтых кудряшек на лбу, с крашеными бровями. Ходила она постоянно в пирамидальном чепце с розовыми лентами, высоком крагене вокруг шеи, белом коротком платье и прюнелевых башмаках на красных каблучках; а сверху платья носила кофту из голубого атласу, со спущенным с правого плеча рукавом. Точно такой туалет был на ней в самый Петров день 1789 года! Пошла она в тот день, еще девицей будучи с родными на Ходынское поле, посмотреть знаменитый кулачный бой, устроенный Орловым. "И граф Алексей Григорьевич (о, сколько раз слышал я этот рассказ!)... заметав меня, подошел, поклонился низехонько, взяв шляпу в обе руки, и сказал так: "Красавица писаная, - сказал он,-- что ты это рукав с плечика спустила? Аль тоже на кулачки со мной побиться желаешь?.. Изволь; только напредки говорю тебе: победила ты меня - сдаюсь! И я твой еемь пленник!.." И все на нас смотрели и удивлялись". И самые этот туалет она с тех пор постоянно носила. "Только не чепец тогда был на мне - а шляпа а-ля бержер де Трианон; и хотя я и напудренная; была - но волосы мои, как золото, так и сквозили, так и сквозили!" Маланья Павловна была глупа, что называется, до святости; болтала зря, словно и сама хорошенько не знала, что это у ней из уст выходит,-- всё больше об Орлове. Орлов стал, можно; сказать, главным интересом ее жизни. Она обыкновенно входила... нет! вплывала, мерно двигая головою, как пава, в комнату, становилась посередине, как-то странно вывернув одну ногу и придерживая двумя пальцами конец спущенного; рукава (должно быть, эта поза тоже когда-нибудь понравилась Орлову); горделиво-небрежно взглядывала кругом, как оно и следует красавице,-- даже пофыркивала и шептала: "Вот еще!", точно к ней какой-либо назойливый кавалер-супирант {кавалер-вздыхатель (от франц. cavalier-soupirant).} приставал с комплиментами,-- и вдруг уходила, топнув каблучком и дернув плечиком. Табак она тоже нюхала шпанский, из крошечной бонбоньерки, доставая его крошечной золотой ложечкой,-- и от времени до времени, особенно когда появлялось новое лицо, подносила снизу - не к глазам, а к носу (она видела отлично) - двойной лорнет, в виде рогульки, щеголяя и вертя беленькой ручкой с отделенным пальчиком. Сколько раз описывала мне Маланья Павловна свою свадьбу в церкви Вознесения, что на Арбате,-- такая хорошая церковь! - и как вся Москва тут присутствовала... давка была какая! ужасти! Экипажи цугом, золотые кареты, скороходы... один скороход графа Завадовского даже под колесо попал! И венчал нас сам архиерей - и предику какую сказал! все плакали - куда я ни посмотрю, всё слезы, слезы... а у генерал-губернатора лошади были тигровой масти... И сколько цветов, цветов нанесли!.. Завалили цветами! И как по этому случаю один иностранец, богатый-пребогатый, от любви застрелился - и как Орлов тоже тут присутствовал... И, приблизившись к Алексею Сергеичу, поздравил его и назвал его счастливчиком... Счастливчик, мол, ты, брат губошлеп! И как, в ответ на эти слова, Алексей Сергеич так чудесно поклонился и махнул плюмажем шляпы по полу слева направо... Дескать, ваше сиятельство теперь между вами и моей супругой есть черта, которую вы не преступите! И Орлов, Алексей Григорьевич, тотчас повял и похвалил. О! Это был такой человек! такой человек! А то, в другой раз, мы с Алексисом были у него на бале --я уже замужем была - и какие были на нем чудесные бриллиантовые пуговицы! И я не выдержала, по-хваяияа. Какие, говорю, у вас, граф, чудесные бриллианты! - А он, взяв тут те со стола нож, отрезал одну пуговицу и презентовал мне ее и сказал: "У вас, голубушка, в глазах во сто крат лучше бриллианты; ставьте-ка перед зеркалом да посравните". И я стала, и он стал со мной рядом. "Ну что? кто прав?" - говорит, а сам глазами так и водит, так и водит вокруг меня. И Алексей Сергеич тут очень оконфузился; но я ему сказала: "Алексис,-- сказала я ему,-- ты, пожалуйста, не конфузься; ты должен лучше меня знать". И он мне ответил: "Будь покойна, Мелани!" И самые эти бриллианты у меня теперь вокруг медальона Алексея Григорьевича - ты, чай, видел, голубчик, я его по праздникам на плече ношу, на георгиевской ленте - потому храбрый был он очень герой, георгиевский кавалер: турку сжег! Со всем тем была Маланья Павловна женщина очень добрая: угодить ей было легко. "Ни она тебя грызь, ни она тебя шпынь",-- отзывались о ней горничные. До страсти любила Маланья Павловна всё сладкое - и особая старушка, которая только и занималась, что вареньем, а потому и прозывалась варенухой, раз по десяти на день подносила ей китайское блюдечко - то с розовыми листочками в сахаре, то с барбарисом в меду или с ананасные шербетом. Маланья Павловна боялась одиночества - страшные мысли тогда находят - и почти постоянно была окружена приживалками, которых убедительно просила: "Говорите, мол, говорите, что так сидите - только месте свои греете!" - и они трещали, как канарейки. Будучи набожной не меньше Алексея Сергеича, она очень любил молиться; но так как, по ее словам, она хорошо читать молитвы не выучилась, то и держалась на то бедная вдова-дьяконица, которая уж так-то вкусно молилась! Не запнется ни вовек! И действительно: дьяконица эта умела как-то неудержимо произносить молитвенные слова, не прерывая их ни при вдыханье, ни при выдыханье - а Маланья Павловна слушала и умилялась. Состояла при ней другая вдовушка; та должна была рассказывать ей на ночь сказки,-- но только старые, просила Маланья Павловна, те, что я уж знаю; новые-то все выдуманы. Очей была Маланья Павловна легкомысленна, а иногда и мнительна: вдруг ей что в голову взбредет! Не жаловала она, например, карлика Януса; всё думалось ей, что он вдруг возьмет да закричит: "А знаете вы, кто я? Бурятский князь! Вот вы и покоряйтесь!" - А не то дом от меланхолии подожжет. Щедра была Маланья Павловна так же, как и Алексей Сергеич; но никогда деньгами не подавала - ручек не хотела марать,-- а платками, сережками, платьями, лентами; или со стола пошлет пирог да жаркого кусок - а не то сткляницу вина. Баб по праздникам тоже угощать любила: станут они плясать" а она каблучками притопывает и в позу становится. Алексей Сергеич очень хорошо знал, что жена его глупа; но чуть ли не с первого году женитьбы приучил себя притворяться, будто она очень остра на язык и любит колкости говорить. Бывало, как только она слишком разболтается, он тотчас погрозит ей мизинцем и приговаривает: "Ох, язычок, язычок! уж достанется ему на том свете! Проткнут его горячей шпилькой!" Маланья Павловна этим, однако, не обижалась; напротив - ей как будто лестно было слышать такие слова: что ж, мол! Не моя вина, что умна родилась! Маланья Павловна обожала своего мужа - и всю жизнь оставалась примерно верной женой; но был и в ее жизни "предмет", молодой племянник, гусар, убитый, как она полагала, на дуэли из-за нее - а по более достоверным известиям, умерший от удара кием по голове в трактирной компании. Акварельный портрет этого "предмета" хранился у ней в секретном ящике. Маланья Павловна всякий раз краснела до ушей, когда упоминала о Капитонушке - так звался "предмет"; а Алексей Сергеич нарочно хмурился, опять грозил жене мизинцем и говорил: "Не верь коню в поле, а жене в доме! Ох, уж этот мне Капитонушка, Купидонушка!" Тогда Маланья Павловна вся вострепещивалась и восклицала: "Алексис, грешно вам, Алексис! Сами-то вы в молодости, небось, "махались" с разными сударками - так вот, вы и полагаете..." - "Ну полно, полно, Маланьюшка,-- перебивал с улыбкой Алексей Сергеич,-- бело твое платье, а душа еще белей!" - "Белей, Алексис, белей!" - "Ох, язычок, по чести язычок",-- повторял Алексис и трепал ее по руке. Упоминать об "убеждениях" Маланьи Павловны было бы еще неуместнее, чем об убежденьях Алексея Сергеича; однако мне раз пришлось быть свидетелем странного проявления затаенных чувств моей тетушки. Я как-то раз, в разговоре, упомянул об известном Шешковском: Маланья Павловна внезапно помертвела в лице - так-таки помертвела, позеленела, несмотря на наложенные белила и румяна - и глухим, совершенно искренним голосом (что с ней случалось очень редко - она обыкновенно всё как будто немножко рисовалась, тонировала да картавила) проговорила: "Ох! кого ты это назвал! Да еще к ночи! Не произноси ты этого имени!" Я удивился: какое могло иметь значение это имя для такого безобидного и невинного существа, которое не только сделать, но и подумать не сумело бы ничего непозволительного? На не совсем веселые размышления навел меня этот страх, проявившийся чуть не через полстолетия. Скончался Алексей Сергеич на восемьдесят восьмом году от рождения, в самый 1848 год, который, видно, смутил даже его. И смерть его была довольно странная. Он еще поутру хорошо себя чувствовал, хотя уже совсем не покидал кресла. И вдруг он зовет жену: "Маланьюшка, подь-ка сюда".-- "Что тебе, Алексис?" - "Помирать мне пора, голубушка, вот что".-- "Бог с вами, Алексей Сергеич! Отчего так?" - "А вот отчего: перво-наперво, надо и честь знать; и еще: смотрю я себе давеча на ноги... чужие ноги - да и полно! На руки... и те чужие! Посмотрел на брюхо - и брюхо чужое! Значит: чужой век заедаю. Пошли-ка за попом; а пока - уложи меня на постелюшку, с которой я уже не встану". Маланья Павловна переполошилась - однако уложила старика и за попом послала. Алексея Сергеич исповедался, причастился, попростился с домочадцами - и стал засыпать. Маланья Павловна сидела у его кровати. "Алексис! - вскрикнула она вдруг,-- не пугай меня, не закрывай глазки! Аль болит что?" Старик посмотрел на жену. "Нет, не болит ничего... а трудновато... дышать трудновато". Потом, помолчав немного: "Маланьюшка,-- промолвил он,-- вот и жизнь проскочила, а помнишь, как мы венчались... какова была парочка?" - "Была, красавчик ты мой, Алексее ненаглядный!" Старик опять помолчал. "Маланьюшка, а встретимся мы на том свете?" - "Буду о том бога молить, Алексис". И старушка залилась слезами. "Ну не плачь, глупенькая; авось, нас там господь бог помолодит - и мы опять станем парочкой!" - "Помолодит, Алексис!" - "Ему, господу, всё возможно,-- заметил Алексей Сергеич.-- Он чудотворец! - пожалуй, и умницей тебя сотворит... Ну, душка, пошутил; дай поцелую ручку".-- "А я твою". И оба старичка поцеловали друг у друга в подвертку руку. Алексей Сергеич начал утихать и забываться. Маланья Павловна умиленно глядела на него, сбрасывая кончиком пальца слезинки с ресниц. Часа два просидела она так. "Започивал?" - спрашивала шёпотом старушка, что молиться хорошо умела, высовываясь из-за Иринарха, который неподвижно как столб стоял у двери и пристально смотрел на отходившего барина. "Почивает",-- отвечала Маланья Павловна тоже шёпотом. И вдруг Алексей Сергеич открыл глаза. "Подруга моя верная,-- пролепетал он,-- супруга моя почтенная, в ножки тебе бы поклонился за всю твою любовь и верность - да где встать? Дай хоть перекрещу тебя". Маланья Павловна придвинулась, наклонилась... Но приподнятая рука упала бессильно на одеяло - и через несколько мгновений не стало Алексея Сергеича. Дочери его поспели только к похоронам с мужьями; детей у них не было - ни у той, ни у другой. Алексей Сергеич их не обидел в своем завещанье, хотя и не вспомнил о них на смертном одре. "Замшилось к ним мое сердце",-- сказал он мне однажды. Зная его доброту, я дивился его словам. Трудно рассудить родителей с детьми. "Большой овраг малой начинается трещиной,-- сказал Алексей Сергеич мне в другой раз по тому же поводу,-- в аршин рана заживает, а отруби хоть ноготь - не прирастет". Мне сдается, что дочери стыдились своих чудаковатых стариков. Месяц спустя не стало и Маланьи Павловны. С самого дня кончины Алексея Сергеича она уже почти вв вставала и не наряжалась; но похоронили ее в голубой кофте и с медальоном Орлова на плече, только без бриллиантов. Их поделили дочери под тем предлогам, что пойдут те бриллианты на оклады образов; на деле же они их употребили на украшение собственных особ. И вот - как живые стоят передо мною мои старика, и хорошее храню я о них воспоминание. А между тем в самый мой последний приезд к ним (я уже тогда был студентом) совершилось событие, которое внесло некоторый разлад в то гармонически патриархальное настроение, которое телегинскнй дом навевал на меня. В числе дворовой прислуги состоял некто Иван, не кличке Сухих - кучер или кучерок, как его врезывали за малый его рост, несмотря на его уже немолодые лета. Крошечный это был человечек, вертлявый, курносый, кудрявый, с вечно смеющимся младенческим лицом и мышиными глазками. Большой он был балагур и потешник; всякую штуку умел смастерить, фейерверки пускал, змеи, во все игры играл, стоя на лошади скакал, выше всех взлетал на качелях, даже китайские тени умел представлять. Никто лучше его не забавлял детей - и сам он с ними хоть целый день рад был возиться. Примется хохотать - весь дом расколышет: то тут, то там ему отвечают - разберет всех... И ругаются, да смеются. Плясал Иван удивительно - особенно "рыбку". Грянет хор плясовую, парень выйдет на середину круга - да и ну вертеться, прыгать, ногами топотать, а потом как треснется оземь - да и представляет движения рыбки, которую выкинули из воды на сушь: и так изгибается и этак, даже каблуки к затылку подводит; а там как вскочит, загогочет - просто земля под ним дрожит! Бывало, Алексей Сергеич, большой, как я уже сказывал, охотник до хороводов, никак не может утерпеть, чтоб не закричать: "Ванюшу сюда! кучерка! Рыбку нам валяй, живо!" - а через минуту уже восторженно шепчет: "Ах он, такой-сякой!" И вот в последний мой приезд входит этот самый Иван Сухих ко мне в комнату и, ни слова не говоря, становится на колени. "Иван, что с тобой?" - "Спасите, барин!" - "Как, что такое?" И рассказал мне тут Иван свою беду. Был он выменян - лет двадцать тому назад - от господ Сухих на другого крепостного телегинского человека; так-таки просто выменян, безо всяких формальностей и бумаг; отданный за него человек помер, а господа Сухие забыли об Иване - и остался он в доме Алексея Сергеича, как свой; одно лишь прозвище его напоминало об его происхождении. Но вот умерли и прежние его господа; имение попало в другие руки - и новый владелец, о котором ходили слухи, что он человек жестокий, мучитель, проведав, что один из его крепостных обретается безо всякого вида и права у Алексея Сергеича, стал его требовать обратно; в случае же отказа грозил судом и штрафом - и грозил не по-пустому, так как сам состоял в чине тайного советника и большой имел по губернии вес. Иван, с перепугу, бросился к Алексею Сергеичу. Жалко стало старику своего плясуна - и предложил он тайному советнику купить у него Ивана за хорошие деньги; но тайный советник и слышать не хотел: был он малоросс и упрям как чёрт. Приходилось отдавать бедняка. "Я здесь сжился, я здесь освоился, я здесь служил, хлеб ел и помереть здесь желаю",-- говорил мне Иван - и уже не было усмешки на его лице; напротив - оно точно окаменело... "А теперь я должон идти к этому злодею... Али я собака, что с одной псарни на другую, завязавши оселом шею... на, мол, тебе! Спасите, барин; помолите вы дяденьку - вспомните, как я всегда вас потешал... А то худо ведь будет; без греха дело не обойдется". -- Без какого греха, Иван? -- А убью я того-то барина. Так и приду да скажу ему: "Барин, отпустите меня обратно; а не то - смотрите, оберегайтесь... я вас убью". Если бы зяблик или чиж мог говорить и стал бы уверять меня, что он заклюет другую птицу - не привел бы он меня в большее изумление, чем Иван о ту пору. Как! Ваня Сухих, этот плясун, балагур, потешник, любимец детей и сам дитя - это добродушнейшее существо - убийца! Что за чепуха! Ни на мгновенье не поверил я ему; меня до крайности поразило уже то, что он мог выговорить такое слово! Однако я отправился к Алексею Сергеичу. Не передал я ему того, что сказал мне Иван, но всячески стал просить его, нельзя ли как-нибудь поправить дело? "Сударик ты мой,-- отвечал мне старик,-- и рад бы радостью, но как быть? Предлагал я этому хохлу вознаграждения великие - триста рублей предлагал, по чести тебе говорю! а он - куды тебе! Что станешь делать? Поступлено было противозаконно, на веру, по старине... а теперь вон какое худо вышло! Ведь хохол тот, чего доброго, силком Ивана у меня возьмет - рука его властная, губернатор у него щи хлебает - солдат пришлет хохол! А боюсь я солдат-то этих! Прежде, что говорить, я как-никак отстоял бы Ивана; а теперь посмотри ты на меня, какой я дряхлец стал. Где мне воевать?" Действительно: в последний мой приезд я нашел Алексея Сергеича чрезвычайно постаревшим: даже зрачки его глаз приняли молочный цвет - как у младенцев - и на губах появилась не прежняя сознательная улыбка, а та напряженно-слащавая, бессознательная усмешка, которая и во время сна не сходит с них у очень дряхлых людей. Сообщил я решение Алексея Сергеича Ивану. Он постоял, помолчал, помотал головою. "Ну,-- сказал он наконец,-- чему быть, того не миновать. А только слово мое крепко. Значит: одно осталось... почудесить напоследях. Барин, пожалуйте на водку!" Я ему дал; он напился пьян и в тот же день такую отколол "рыбку", что девки и бабы даже взвизгивали - до того он кочевряжился! На другой день я уехал домой, а месяца через три - уже в Петербурге - я узнал, что Иван сдержал-таки свое слово! Выслали его к новому барину; позвал его барин в кабинет и объявил ему, что будет он у него состоять кучером, что поручается ему тройка вяток и что строго с него взыщется, если будет худо за ними ходить и вообще не будет исправен. "Я-де шутить не люблю". Иван выслушал барина, сперва в ноги ему поклонился,-- а потом объявил, что, как его милости угодно, а не может он быть ему слугою. "Отпустите, мол, меня на оброк, ваше благородие, али в солдаты определите; а то долго ли до беды?" Барин вспылил. -- Ах ты, такой-сякой! Что ты это мне сказать посмел? Во-первых, знай, что я превосходительство, а не высокоблагородие; во-вторых, ты уж из лет вышел и рост у тебя не такой, чтобы тебя в солдаты отдать; а наконец - какою это ты мне бедой грозишь? Поджечь, что ли, меня собираешься? -- Нет, ваше превосходительство, не поджечь. -- Так убить, что ли? Иван промолчал. -- Не слуга я вам,-- промолвил он наконец. -- À вот я тебе покажу,-- взревел барин,-- мой ли ты слуга или нет! - И, жестоко наказав Ивана, все-таки повелел ему выдать на руки тройку вяток и определять его кучером на конный двор. Иван, по-видимому, покорился; начал ездить кучером. Так как он на это дело был мастер, те вскоре полюбился барину - тем более, что вел себя Иван очень скромно и тихо, к лошади у него раздобрели; выхолил он их - такав огурчики стали - загляденье! Стал барин выезжать с ним чаще, чем с другими кучерами. Бывало, спросит: "А что, помнишь, Иван, как мы с тобой неладно встретились? Чай, дурь-то с тебя соскочила?" Но Иван на эти слова никогда ничего не отвечал. Вот однажды, под самое крещение, отправился барин с Иваном в город на его тройке с бубенцами, в, ковровых пошевнях. Стали лошади шагом подниматься в гору - а Иная слез с облучка и зашел за пошевни, словно что обронил. Мороз стоял сильный: барин сидел, закутавшись, и бобровую шапку не уши надвинул. Тогда Иван достал из-под полы топор, подошел сзади к барину, сбил с неге шавку - да, промолви": "Я тебя, Петр Петрович, остерегал - сам на себя теперь пеняй!" - раскроил ему голову одним ударом. Потом остановил лошадей, надел на мертвого барина сбитую шашку - и, снова взобравшись на облучая", привез его в тетрод прямо к присутственным местам. -- Вот, мол, вам сухинский генерал, убитый; и убил его я. Как я ему сказал - так я ему и сделал. Вяжите! Ивана схватили, судили, присудили к кнуту, а поте" на каторгу. Попал в рудники веселый, птицеобразный плясун - да и исчез там навеки... Да; поневоле - хоть и в ином смысле - повторишь с Алексеем Сергеичем: -- Хороша старина... ну, да и бог с ней! |
| Иван Тургенев.ру © 2009, Использование материалов возможно только с установкой ссылки на сайт |